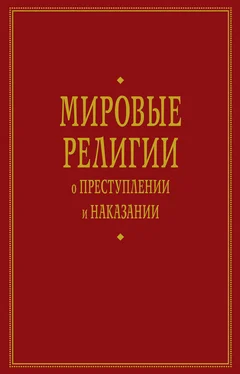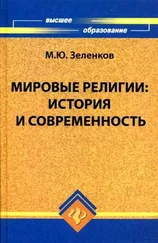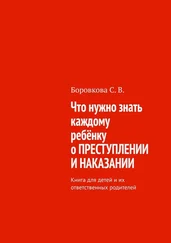Однако сами трактаты по фикху, как правило, ограничивались перечнем лишь некоторых примеров наказаний «тазир», а при рассмотрении большинства конкретных вопросов обходили проблемы ответственности стороной. Это было связано с тем, что разработанная фикхом концепция «шариатской политики» признавала право на «иджтихад» – а значит, на установление санкций «тазир» – за правителем и судьей.
Поэтому тот факт, что при изложении каких-либо предписаний фикха мусульманские юристы не упоминают санкций за их нарушение, не означает, что такая ответственность вообще не наступает. Она презюмируется, но, поскольку сам шариат в точной форме ее не предусматривает, полномочия по ее определению делегируются правителю, который вправе в законодательном порядке установить санкции «тазир» за конкретные нарушения, выбрав нужное наказание из предлагаемого фикхом перечня или даже за его пределами.
Некоторые толки исламской правовой доктрины признавали право на «иджтихад» по вопросам «тазира» и за судьей: если правитель не установил необходимую санкцию за нарушение, относительно которого в шариате нет точного наказания, то право ее выбора передается судье, естественно, в рамках разработанных фикхом критериев.
Интересно, что, согласно выводам традиционной исламской юриспруденции, накладывать санкции «тазир» по своему усмотрению могут даже муж, отец и учитель по отношению соответственно к жене, детям и ученикам. Автор настоящей статьи был свидетелем типичного случая применения санкции «тазир» администрацией Исламского университета имама Мухаммада бен Сауда в Саудовской Аравии: студент, неоднократно пропускавший молитву без уважительной причины, решением дисциплинарной комиссии был на один месяц лишен стипендии.
Исламская концепция ответственности: взаимодействие религиозного и правового начал. Следует вновь подчеркнуть неоднозначность подхода традиционного фикха к проблеме нарушения его норм и ответственности. Такая позиция, испытывая глубокое влияние религиозных постулатов, вместе с тем отвечает ряду характерных для права признаков.
Это тесное сочетание можно проследить на примере преступлений группы «худуд». Их трактовка исламским правоведением по своей логике сопоставима как с исходными началами регулирования шариатом религиозных обязанностей мусульман, так и с типичным для современного уголовного права принципом. Оба этих ориентира выражаются в явном преобладании императивных норм и презумпции дозволенности только того, что шариатом прямо установлено. Неслучайно в исламской правовой мысли утвердилось мнение, согласно которому правила «худуд» относятся к религиозным предписаниям и тем самым ставятся в один ряд с культовыми обязанностями верующих.
Одновременно типичная для права строгость формальных предписаний выражается в том, что по преступлениям «худуд» принимаются только точно определенные виды доказательств (особенно жесткие требования предъявляются к свидетельским показаниям) и установлены четкие императивные процедуры вынесения приговора судом. Например, обвиняемому в вероотступничестве трижды дается возможность раскаяться и вернуться в лоно ислама. Кстати, в 1985 г. это требование было соблюдено при вынесении смертного приговора суданскому теологу Тахе Ибрахиму, который с перерывами в несколько дней трижды отказался публично отречься от своих взглядов, оцененных судом как доказательство его вероотступничества.
Вместе с тем, в отличие от привычного для современного уголовного права принципа, исламская правовая доктрина при установлении ответственности за нарушения норм фикха допускает своего рода аналогию, при применении которой за основу могут браться даже наказания «худуд». В частности, в традиционных трактатах по фикху ответственность за гомосексуализм и скотоложество формулируется в сопоставлении с санкцией за прелюбодеяние, хотя в точности с ней не совпадает, а сами эти запрещенные действия часто включаются в число «худуд». Можно привести и другой пример: колдовство наказывается по аналогии с санкцией за вероотступничество и нередко рассматривается вместе с правонарушениями указанной разновидности.
Наконец, сочетание и взаимодействие в исламском уголовном праве религиозного и юридического начал проявляется в предусмотренных им мерах ответственности, имеющих религиозный смысл. Как уже отмечалось, в любом нарушении правил фикха исламская правовая мысль видит религиозный грех, влекущий потустороннее наказание, которое в Коране определяется, например, как проклятие Аллаха или муки адского огня.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу