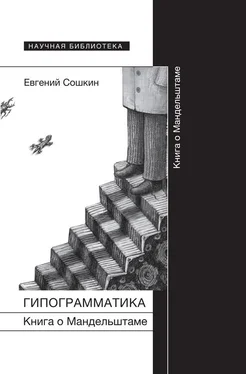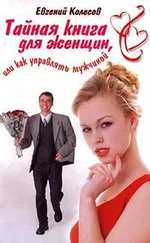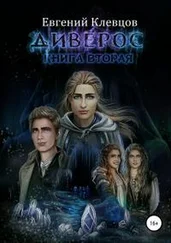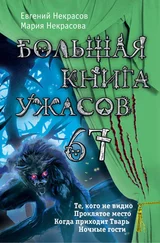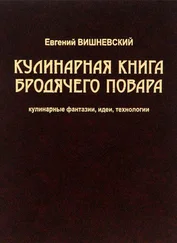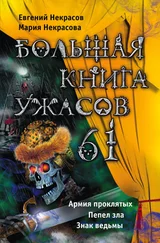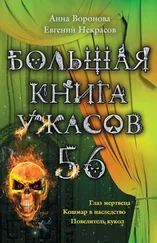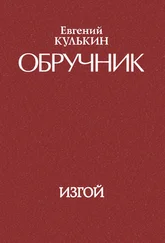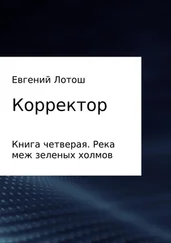1 ...6 7 8 10 11 12 ...226 Безусловно, и биография Мандельштама на тех или иных ее отрезках, и низшие уровни смысла тех или иных его текстов дают основания для различных идеологически отмеченных определений, но ни одно из них не связано отношением предикации с призванием и профессией Мандельштама – поэт . Подобная привязка всегда является результатом идеологического вмешательства интерпретатора. Начать с того, что Мандельштам практически во все периоды жизни был исключительно последователен в своей идеологической непоследовательности. За пределами эстетической сферы персональный выбор Мандельштама, при всей своей искренности, по существу второстепенен. Мандельштаму по-настоящему дорог не тот или другой из взаимоисключающих вариантов, а как раз невозможность выбрать между ними, неразрешимость внутреннего конфликта [104] – то есть то, что составляет специфику трагической коллизии [105], [106]. Вероятно, этим объясняется и склонность Мандельштама к перемене убеждений на прямо противоположные [107], и свойственное ему курьезное неразличение противоположностей [108], и приоритет семантического ядра над придаваемыми ему значениями позитивности и негативности [109].
Впрочем, эта всегдашняя антитетичность интеллектуального поведения Мандельштама, будучи производной от его поэтики (а может быть, ее составляющей [110]), все же позволяет объявить его, допустим, поэтом гражданским или иудео-христианским, разрывающимся, подобно теургу, между полюсами своих идеологических притяжений. Суть же не в том, что он делает свой выбор в пользу сразу двух контрадикторных начал или меняет его на диаметрально противоположный [111], а в том, что этот идеологический пласт содержания творчества Мандельштама, в сущности, довольно тривиален [112]и вовсе не специфичен для этого творчества. Он сопутствует процессу текстообразования, непосредственно в нем не участвуя. Подобно области контекстуальных значений, идеологический вектор лишь ограничивает свободу выбора имплицитных мотивировок и, соответственно, свободу интерпретатора [113]. Грубо говоря, этот вектор в известной мере мотивирует отказ поэта от некоторых решений или стратегий, но положительных авторских решений он не определяет: по моему убеждению, ни одно мандельштамовское словоупотребление не мотивировано идеологическими притяжениями и колебаниями [114]. Сами же они превращаются в легитимные объекты филологической реконструкции только по завершении подтекстуального анализа произведения [115](что я и постарался продемонстрировать в IV главе). Это в равной мере относится и к любым попыткам перевести мандельштамовский текст на язык подстрочника.
***
Основополагающий принцип поэтики Мандельштама (которому он, предположительно, стал систематически следовать после «Тристий») был сформулирован уже на ранней стадии развития контекстуально-подтекстуального анализа. Так, в программной статье 1970 г. Омри Ронен писал:
Согласно рабочей гипотезе К. Ф. Тарановского, положенной в основу <���…> семинария [1968 г.], у Мандельштама в плане содержания нет ничего немотивированного, случайного или построенного на автоматических ассоциациях т. н. сюрреалистического типа. Для поэтики Мандельштама характерна строгая мотивированность всех элементов поэтического высказывания не только в плане выражения и в семантических явлениях, связанных с тыняновским понятием «тесноты стихового ряда» <���…>, но и в плане содержания на самых высших его уровнях [Ронен 2002: 14–15] [116].
Высказанная без малого полвека назад, гипотеза имплицитной (т. е. лежащей в плане содержания) доказуемой мотивированности всех элементов мандельштамовского текста до сих пор так и остается рабочей. В свое время, при тогдашнем уровне изученности корпуса произведений Мандельштама, она не могла получить достаточного подтверждения. В дальнейшем, однако, сами представители подтекстуального метода в своей практике по умолчанию исходили из того, что выдвинутый ими принцип мандельштамовской поэтики все же не тотален. В тех случаях, когда мотивирующий имплицитный смысл текста или его сегмента не распознавался, возникали герменевтические решения с элементами анагогических, биографических или чисто контекстуальных толкований. Эта методологическая эклектичность обозначилась еще резче на фоне все большего изобилия частных находок в области расшифровки разрозненных приемов: по мере того как множились эти находки, все очевиднее становилась их бессистемность.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу