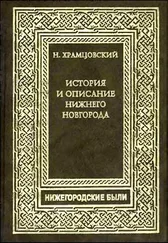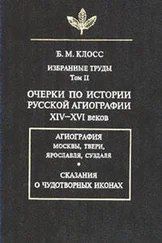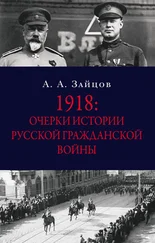Такое же неопределенное честолюбие и плохо скрытая гордыня видны и в его мечтаниях о своем будущем, мечтаниях, которым он часто отдавался в школе и которые поверял охотно своей матери. Это темное предчувствие славы в грядущем, уверенность в великом подвиге, который его ожидает, – явления довольно обычные в юношеской жизни людей крупных. Они не должны удивлять нас и в Гоголе. Однако в этих мечтах нашего лицеиста о будущей своей славе есть нечто опять-таки очень своеобразное.
В 1826 году, в веселую и добрую минуту он пишет матери: «Вы знаете, какой я охотник до всего радостного. Вы одни только видели, что под видом, иногда для других холодным, угрюмым, таилось кипучее желание веселости (разумеется, не буйной) и часто в часы задумчивости, когда другим казался я печальным, когда они видели или хотели видеть во мне признаки сентиментальной мечтательности, я разгадывал науку веселой, счастливой жизни, удивлялся, как люди, жадные счастия, немедленно убегают его, встретившись с ним. Ежели о чем я теперь думаю, так это все о будущей жизни моей. Во сне и наяву мне грезится Петербург, с ним вместе и служба государству. До сих пор я был счастлив, но ежели счастие состоит в том, чтобы быть довольну своим состоянием, то не совсем, – не совсем до вступления в службу, до приобретения, можно сказать, собственного постоянного места» [5].
В другую, печальную минуту, вспоминая своего покойного отца, он пишет матери: «Сладостно мне быть с ним (т. е. с образом усопшего), я заглядываю в него, т. е. в себя, как в сердце друга, испытую свои силы для поднятия труда важного, благородного на пользу отечества, для счастия граждан, для блага жизни подобных, и, дотоле нерешительный, неуверенный (и справедливо) в себе, я вспыхиваю огнем гордого самосознания… Чрез год вступаю я в службу государственную» [6].
«Как угодно почитайте меня, но только с настоящего моего поприща вы узнаете настоящий мой характер, – пишет он матери, уже прощаясь с Нежином. – Верьте только, что всегда чувства благородные наполняют меня, что никогда не унижался я в душе и что я всю жизнь свою обрек благу… Вы увидите, что со временем за все худые дела людей я буду в состоянии заплатить благодеяниями, потому что зло их мне обратилось в добро» [7].
Итак, скорей в Петербург. «Уже ставлю мысленно себя в Петербурге, – мечтал он, – в той веселой комнатке, окнами на Неву, так, как я всегда думал найти себе такое место. Не знаю, сбудутся ли мои предположения, буду ли я точно живать в этаком райском месте или неумолимое веретено судьбы зашвырнет меня с толпою самодовольной черни (мысль ужасная!) в саму глушь ничтожности, отведет мне черную квартиру неизвестности в мире!» [8]Читая все эти размышления о предстоящем подвиге на благо людей и эти постоянные вздохи о Петербурге и службе, трудно отдать себе ясный отчет в том, что именно в данном случае так разжигало фантазию Гоголя. Было ли это в самом деле высокое честолюбие, унаследованное от предков, как утверждает один биограф? [9]Едва ли. Вернее предположить, что столь популярное тогда слово «служба» и слово «служение» совпадали в мечтах Гоголя о своем будущем. Действительно, наш художник всю жизнь признавал себя «служителем» общественного блага, и даже тогда, когда от всяких честолюбивых планов пришлось отказаться, он не переставал смотреть на свою писательскую деятельность как на «службу» государству и раздавал направо и налево советы государственной мудрости. Так и в юные годы слилось у него представление о службе в Петербурге с представлением о служении на благо ближнего.
Но самое поразительное в этих мечтах юноши – это полное молчание о писательской карьере: Гоголь настойчиво говорит о своем желании принести людям пользу, облагодетельствовать их, и кроме «службы» он не видит иного пути для достижения этой цели; он как будто не желал заметить, что в его распоряжении находится совсем особый дар для служения людям. Нельзя, однако, предполагать, что он совсем не сознавал в себе этого дара, и потому-то молчание о нем так странно. У писателей замечается обыкновенно еще в детстве большое пристрастие и большое доверие к будущему своему излюбленному делу: они детьми о нем мечтают. Гоголь в данном случае составлял исключение. Насколько позднее он высоко ценил свою писательскую деятельность, считая ее боговдохновенным пророчеством, настолько небрежно относился он к ней в ранней юности и даже, как сейчас увидим, в первые годы своей литературной работы.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу