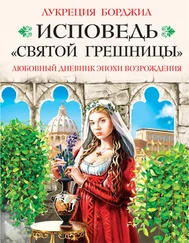Девиз Дон Кихота, много раз провозглашаемый в романе, – «каждый-сын своих дел». Спор о реальности идеальных героев переходит в оценку человеческой натуры, ее удела и внутренних возможностей. Еще не посвященный в рыцари Дон Кихот знает, что он «самый доблестный из всех рыцарей, какие когда-либо опоясывались мечом» (I, 3). И не потому, что он физически могуч – его без труда побеждают в драке и простой козопас, и крестьянин (I, 52), и собственный оруженосец. Но, как объясняет он впоследствии герцогине, древние рыцари часто были неуязвимы физически, он же неуязвим духовно и, как никто из них, непреклонен. После любого поражения, ниспосланного судьбой, он остается верным своей высокой цели. Только что побежденный пастухом, он бросается освобождать «принцессу», ибо опыт поражений его не должен остановить. Шествовать по крутизнам, возводящим доблестных к подножью бессмертья, нелегко, и туда ведет узкая тропа (I, 32), но «ничтожество да будет уделом того, кто за ничтожество себя почитает» (I, 21). В образе Дон Кихота, «старого старика» (Герцен), тощего, слабосильного, но несгибаемого духом, воплощен в последний раз и в наиболее резкой форме ренессансный идеал «доблести», юмористически схваченный с субъективной стороны.
В низовом испанском дворянстве, которое кичилось тем, что «идальго ниже только Господа Бога и не уступает ни в чем самому королю», реалист Сервантес находит героя для этики доблести. В Испании, где по закону любой солдат за военные заслуги освобождался вместе со своим потомством от податей и «рождался вновь», само слово «идальго» – «сын чего-то» – в XVI веке толковалось как «сын своих дел», и отсюда возникла, как свидетельствует испанский гуманист Уарте, популярная испанская поговорка «каждый сын своих дел». Порой идальго Дон Кихот еще разрешает себе высокомерное отношение к простым людям, но его страсть не может быть выведена из сословного положения. Это и не случайная, патологическая мания, как у героя новеллы Сервантеса «Лиценциат Видриера», который вообразил, что тело его из стекла. И уже потому не мания величия, что исходный ее пункт – человек, творец своей собственной судьбы, – распространяется и на окружающих. Не только на Дульцинею Тобосскую, которая тоже «дочь своих дел» и из рода, «хотя и не древнего, однако могущего положить достойное начало знатнейшим поколениям грядущих столетий» (I, 13), но и на простого крестьянина Альдудо в эпизоде заступничества за мальчика Андреса: «и Альдудо могут быть рыцарями», ибо «каждого человека должно судить по его делам» (I, 4). Оруженосец Дон Кихота крестьянин Санчо также полагает, что раз он человек, то может стать не только губернатором острова, но даже самим папой (I, 47).
В понятие «черни» ламанчский идальго в духе новых идей вкладывает не сословное, а культурное содержание: «всякий неуч, будь то сеньор или князь, может и должен быть сопричислен к черни» (II, 16). Когда Санчо удивляется, почему Дон Кихот выбрал себе в дамы простую крестьянку, рыцарь рассказывает ему веселую новеллу в духе «Декамерона» о молодой вдовушке, которая сумела доказать своему духовнику, что он отстал от века , упрекая ее за то, что она выбрала себе в любовники простого парня, послушника, а не какого-нибудь доктора богословия; «в том, что мне от него надобно, – замечает она, – он достаточно сведущ и самого Аристотеля за пояс заткнет»; в роли идеальной дамы Альдонса Лоренсо также не уступит никакой принцессе (I, 25).
Этика доблести аристократична только по форме. Странствующие рыцари – высшая и избранная порода людей, так как вся их жизнь посвящена служению обществу. Честолюбивый долг перед собою – самоотверженный долг перед другими. Дон Кихоту нельзя задержаться в пути, ибо это значит «лишить человеческий род и всех, кто в нем, Дон Кихоте, нуждается, защиты и покровительства» (I, 17). Странствующему рыцарю до всего есть дело, он за все отвечает («все его касается, всюду он сует свой нос», – замечает Санчо, I, 22) и творит суд над жизнью.
Энтузиазм веры в себя, в человека и критическое отношение к общественным учреждениям в Дон Кихоте сливаются. Свободное развитие личности как предпосылка разумного устройства общества вдохновляло творцов социальных утопий Возрождения, но только на исходе эпохи ренессансный идеал воплощен в образе свободного героя, вся жизнь которого, самодеятельная, отвергающая внешние ограничения, посвящена величайшей из «доблестей» – служению людям.
Дон Кихот поэтому уверен, что лишь невежды будут его порицать, а строгие судьи никогда не осудят (I, 20). Отношение к безумию героя действительно неодинаковое у персонажей романа. Если на одном полюсе общества, в сытом мире герцога, его мания служит предметом жестоких шуток, то на другом, среди людей из народа, он встречает инстинктивное уважение к его благородству (козопасы), искреннюю привязанность (Санчо) и сочувствие (Роке Гинарт). Культурные и проницательные люди, вроде священника или дона Лоренсо, оценивают, вместе с автором, манию Дон Кихота как мудрое безрассудство или как «безумие благородное» («глупее глупого было бы рассуждать иначе», – заключает дон Лоренсо, II, 18).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
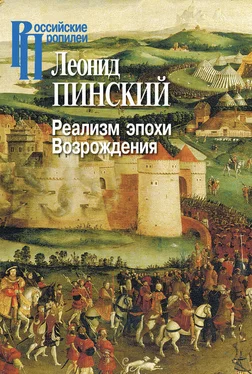





![Петр Киле - Очаг света [Сцены из античности и эпохи Возрождения]](/books/168281/petr-kile-ochag-sveta-sceny-iz-antichnosti-i-epohi-thumb.webp)