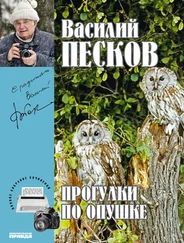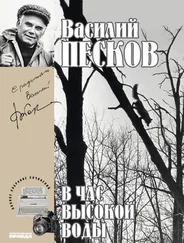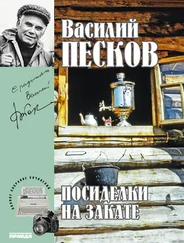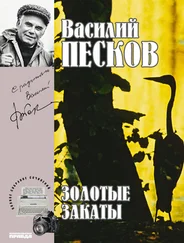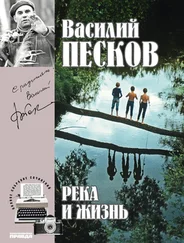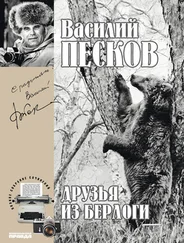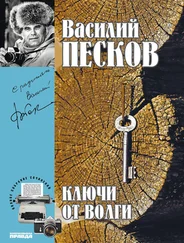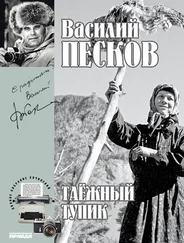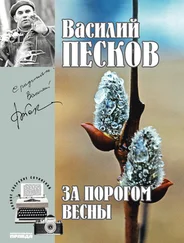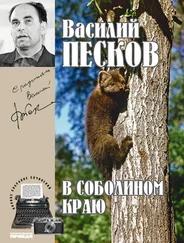В этом анализе, столь всесильном по сферам изображаемым, г. Леонтьев находит исчезающие недостатки в «Войне и мире», которые в «Анне Карениной» пропадают окончательно. Он справедливо указывает на излишество наблюдения, на придирчивость, на подозрительное подглядыванье, которое великий романист допускает в себе по отношению к выводимым у него лицам. Не только для читателя его произведений, но и для самого художника скульптурность и жизненность созданных им образов так велика, что они движутся, говорят и действуют, хотя, конечно, по воле творца своего, но и вместе как будто независимо от этой воли, и он следит за ними пытливым взглядом человека, который прежде всего хочет не доверять. Он ищет дурных и мелочных мотивов даже там, где они вовсе не необходимы. Критик правдоподобно указывает и вероятную причину этого: он посмотрел в душу художника, так скептически смотрящего на своих героев, и увидел, что он ищет в них того, чего боится в себе. Он ищет в них ложного величия, он опасается, как бы под каким-нибудь извне высоким поступком у них не оказалось пустого места внутри. От этого он любит их унижать, он хочет видеть их смешными даже и тогда, когда они хотят быть только серьезными. Странное следствие получается из этого: оборванные, общипанные своим творцом, перед нами выходят люди, как их Бог создал, и если мы все-таки находим в них иногда черты высокого и героического, то это уже героизм истинный, правдивый. Природа человеческая высока и прекрасна, хотя и не на тот манер, как обыкновенно про это думают — вот окончательное и неизгладимое впечатление, которое ложится на душу размышляющего читателя после долгого и внимательного изучения произведений гр. Толстого.
Психический анализ в «Анне Карениной» чужд этой нервной подозрительности. Как будто взгляд автора на человека окончательно установился, когда он писал этот роман, и все приемы в изображении людей приобрели здесь окончательную твердость и отчетливость, так что в движении художественной кисти нет уже ни одного пробного мазка. Он уже не высматривает здесь душу человека, он видит ее и говорит о том, что видит, но не описывает того, что подозревает в ней.
Не менее убедительно, подробными сравнениями, г. Леонтьев указывает и превосходство «Анны Карениной» над «Войною и миром» в изображении общего колорита представленной там и здесь эпохи. Всегда и всеми «Война и мир» считалась безупречным романом с точки зрения исторической верности. Анализ необыкновенной тонкости, которому подверг критик этот роман, открывает в нем, при всюду безупречной верности природе человека вообще, некоторые уклонения в верности тому, Как могла выразиться эта природа в начале нашего века. Неточность, в которую впал здесь гр. Толстой, двоякая: общая, которая чувствуется во всем романе, и частная, которая выступает особенно резко при чтении некоторых сцен его. Все в России, за исключением государственного патриотизма, было «поплоше, послабее, побледнее» выражено в эпоху отечественной войны, нежели как это представил гр. Толстой. Люди того времени не имели такой сложности в своем душевном развитии, и в особенности они совершенно не умели так отчетливо и точно выражать свои душевные движения. Они отлично действовали и хорошо чувствовали, но впадали в непременную запутанность языка и в неясность выражений, как только им приходилось говорить о чем-нибудь сложном, углубленном, не так очевидном. Рефлексия, вечное обращение внутрь себя еще не углубило в то время и не разрыхлило душу русского человека, и все мысли в нем были не так тягучи, а чувства имели у себя более простую и ясную основу в фактах внешней действительности. С несравненным пониманием и обильным знанием фактов г. Леонтьев отмечает последовательные психические наслоения, которые позднее сгустили краски нашей личной и общественной жизни. Так, он тонко указывает на первое пробуждение у нас сильного воображения, которое замечается в Гоголе. И гораздо раньше, чем он оканчивает свою осторожную аргументацию, читатель убеждается, как много мыслей и чувств, ставших возможными и обычными лишь впоследствии, гр. Толстой внес в изображение эпохи, совершенно чуждой им. Как на пример особенно поразительный, г. Леонтьев указывает на отношения Пьера Безухова к пленному солдату, Платону Каратаеву, и на все размышления первого о народном. Эти мысли и подобные отношения стали возможны лишь после славянофилов, после Достоевского, но никакого следа их мы не открываем в воспоминаниях или в литературных произведениях за два первые десятилетия нашего века.
Читать дальше
![Василий Розанов О писательстве и писателях. Собрание сочинений [4] обложка книги](/books/91663/vasilij-rozanov-o-pisatelstve-i-pisatelyah-sobran-cover.webp)