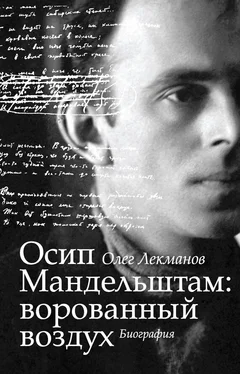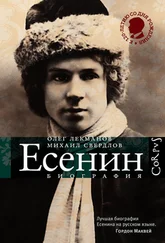Гумилев и его товарищи собирались регулярно, по нескольку раз в месяц. Поэты рассаживались по кругу и, один за другим, вслух читали свои стихи. Затем стихи участников объединения подробнейшим образом обсуждались. Гумилев «требовал при этом “придаточных предложений”, как он любил выражаться: то есть не восклицаний, не голословных утверждений, что одно хорошо, а другое плохо, но мотивированных объяснений, почему хорошо и почему плохо. Сам он обычно говорил первым, говорил долго, разбор делал обстоятельный и большей частью безошибочно верный» (из мемуаров Георгия Адамовича) [138].
Всего с 1911 по 1914 год состоялось около 35 заседаний объединения.
В «Цехе» было продолжено и поставлено на широкую ногу обучение стихотворчеству как ремеслу, а также прививание авторам-дебютантам поэтического вкуса, которое для Гумилева началось с переписки с Брюсовым (с 1906 года) и регулярного посещения вечеров на «башне» Вячеслава Иванова (с 1908 года). Соответственно, если Гумилева часто упрекали в подражательстве Брюсову («Раз навсегда решив, что нет пророка, кроме Брюсова, г. Гумилев с самодовольной упоенностью, достойной лучшего применения, слепо идет за ним») [139], участников «Цеха» корили уже за эпигонство у самого Гумилева (и Городецкого): «Собранные под заботливым крылом Гумилева и Городецкого, ютятся тут юнцы, в рабских устремлениях старающиеся дать похожесть на “синдиков”» [140].
Первое заседание «Цеха» прошло 20 октября 1911 года. Мандельштам на нем не присутствовал, хотя к этому времени уже вернулся в Петербург из Финляндии, где он жил с марта по сентябрь. Из мемуаров К.И. Чуковского: «Помню, в предосеннюю пору мы вышли с ним и с другими друзьями на пустынный куоккальский пляж.
День был мрачный и ветреный, купальщиков не было. И вдруг Осип Эмильевич молча сбросил с себя легкую одежду, и, не успели мы удивиться, как он оказался в воде и быстро поплыл по направлению к Кронштадту. Плыл он саженками, его сильные руки, казавшиеся белыми на тусклом фоне свинцового моря, ритмически взлетали над водой против ветра.
Не помню, кто был тогда с нами, – кажется, Борис Григорьев, Николай Кульбин, Юрий Анненков. Мы подошли к Мандельштаму, едва только он воротился. Я хотел принести полотенце и теплую куртку (дом был недалеко, в двух шагах), но Мандельштам, не сказав ни слова, стал бегать по холодному пляжу так быстро, что нельзя было не залюбоваться его здоровьем и молодостью. Бегал он долго – без устали. И оделся лишь после того, как обсушил и согрел свое крепкое тело» [141].
«Цеховой» дебют Мандельштама состоялся 10 ноября 1911 года, и уже «очень скоро» поэт сделался в «Цехе» «первой скрипкой» (формула Ахматовой) [142].
Судя по всему, Мандельштама влекла в «Цех» в той же степени жажда услышать квалифицированное мнение о своих стихах, сколь и царившая на «цеховых» встречах дружеская атмосфера. «Неврастеник» (как аттестовала своего сына Флора Мандельштам) [143], не принятый вполне ни одним сообществом, впервые в жизни обрел круг людей, с которыми он мог объединить себя словом «мы» [144]. Пушкинский лицей, которым не стало для Мандельштама Тенишевское училище, в какой-то мере воплотился в «Цехе поэтов». А это придало молодому стихотворцу чувство уверенности в себе. Случайно встретившийся с ним в ноябре 1912 года Михаил Карпович вспоминал: «Мандельштам показался мне на вид очень изменившимся: стал на вид гораздо более важным, отпустил пушкинские бачки и вел себя уже как мэтр. Со мною он встретился без особой теплоты и, во всяком случае, без каких-либо следов прежней экспансивности» [145].
Неудивительно, что в три предвоенных года создавались едва ли не самые жизнеутверждающие мандельштамовские стихотворения:
Поедем в Царское Село!
Свободны, ветрены и пьяны,
Там улыбаются уланы,
Вскочив на крепкое седло, –
Поедем в Царское Село!
«Царское Село», 1912
Ключевую воду пьет
Из ковша спортсмен веселый;
И опять война идет,
И мелькает локоть голый!
«Теннис», 1913
«Мороженно!» Солнце. Воздушный бисквит.
Прозрачный стакан с ледяною водою.
И в мир шоколада с румяной зарею,
В молочные Альпы мечтанье летит.
«“Мороженно!” Солнце. Воздушный бисквит…», 1914
Особенно отчетливо тогдашние настроения поэта отразила его «сонетная серия», в которую вошли стихотворения «Казино» (1912), «Пешеход» (1912), «Паденье – неизменный спутник страха…» (1912) и некоторые другие:
Я не поклонник радости предвзятой,
Подчас природа – серое пятно.
Мне, в опьяненьи легком, суждено
Изведать краски жизни небогатой.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу