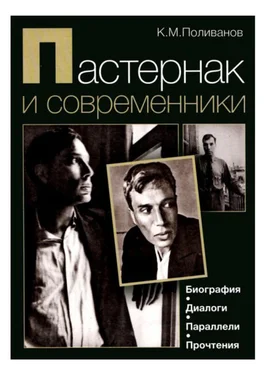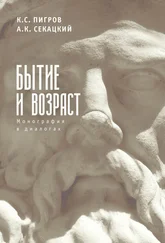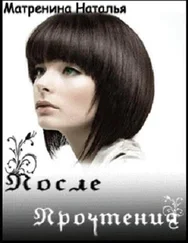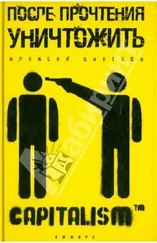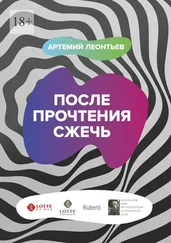В феврале 1913 года приезжают Варвара с мужем, художником Владимиром Комаровским. Она пишет о Марбурге и их жизни О. Н. Трубецкой 11 февраля: «Сам Марбург при других обстоятельствах мог бы быть очень приятен для жизни. В какую сторону ни пойдешь – чудные прогулки, самые разнообразные; такие хорошие дороги, что идешь совсем незаметно, виды очень красивые, и в 10 минут ты можешь дойти до настоящей деревни. Мы с Володей ходили довольно много и далеко, и это очень приятно. Сам город тоже нам очень нравится, и мы все находим в нем разные красивые уголки. К тому же погода почти все время стоит чудная; только несколько дней было холодно, а теперь, как у нас в начале октября или конце сентября хорошего года. Уже несколько времени тому назад начали разбухать почки, но потом как-то застыли на той же точке. Мы очень надеемся, что теперь и в России начинает пригревать солнце <���…> Папа здесь тоже гуляет порядочно, но избегает ходить в гору. По утрам он занимается сначала с немецким студентом, затем с русским [21]. Днем мне диктует письма. Одно время мы читали вслух все вместе, теперь как-то реже стали. “Новое время” обычно читает папе Михаила. Володя рисует ряд праздников для Куликовского иконостаса, сначала в маленьком виде, потом в настоящем. Из здешних жителей мы почти никого не видаем. Были с визитом у Гавронских и др., но этим дело и кончилось <���…»> [22].
В мае 1913 года Ф. Д. Самарин вновь приезжает в Марбург и застает, как ему тогда казалось, перелом в болезни сына. 22 мая он пишет О. Н. Трубецкой: «…Прошла уже неделя с тех пор, как мы сюда приехали, а Дмитрия я все еще не видел <���…> Первые признаки нового настроения замечены были в самый день нашего приезда в Марбург. Он заинтересовался игрой в шахматы своих соседей, сам стал играть, очень легко обыграл своего партнера и, главное, хорошо относился к нему, не кичился своим превосходством и благодушно объяснял все его ошибки. С тех пор держится такое же настроение и продолжается интерес к шахматам. Дня через два он попросил какое-нибудь руководство по политической экономии, и когда получил его, то проявил большую радость и стал читать его, не отрываясь от него даже во время шахматной игры» [23].
Об этой игре в шахматы писали и сестры. Соблазнительно предположить, что через Мансурова, с которым весной 1913 года Пастернак общался, он мог знать об этой игре в шахматы в сумасшедшем доме. Не отсюда ли могли взяться «шахматные» образы ночного кошмара, завершающего стихотворение «Марбург». Вполне безумная картина, начинающаяся строфой:
По стенам испуганно мечется бой
Часов и несется оседланный маятник,
В саду – ты глядишь с побелевшей губой —
С земли отделяется каменный памятник.
Завершается странным шахматным поединком:
Ведь ночи играть садятся в шахматы
Со мной на лунном паркетном полу.
Акацией пахнет…
…И тополь – король.
Королева – бессонница.
И ферзь – соловей.
Я тянусь к соловью.
И ночь побеждает, фигуры сторонятся,
Я белое утро в лицо узнаю.
Полное выздоровление так и не наступало. Его перевозят в Одессу, затем в лечебницу под Смоленском. В конце он действительно сбежал от сопровождавших его в Сибири, вернулся больной в Москву и, по сведениям Корякова, и здесь был принят вновь тем самым Г. О. Гордоном, которого он встретил в Марбурге в 1909 году.
В какой-то момент, впрочем, Самарина несколько отпустила болезнь. В последнем номере «Русской мысли», который вышел весной 1918 года, была напечатана его статья «Богородица в русском народном православии» [24]. Эту статью современные культурологи склонны считать первым опытом взгляда на историю русской культуры не как на противостояние язычества и христианства, а как на достаточно органичное соединение в живой культуре элементов, генетически восходящих к разным эпохам и миропредставлениям. Самарин стремился показать, что в распространенных в России с древнейших времен культах богородичных икон, даже не к самой Богоматери, а к ее изображениям обращаются так, как в христианстве надлежит обращаться лишь к Богу. Это он и объяснял взаимопроникновением языческих и христианских представлений.
Михаил Коряков [25]первый после появления романа «Доктор Живаго» обратил внимание на черты сходства судеб Юрия Андреевича и Дмитрия Самарина и на соседство фамилий Гордон и Комаровский – в романе и в пастернаковском окружении 1910-х годов. Корякову кажется существенным и то, что дома в Камергерском переулке, в одном из которых Пастернак помещает средоточие «скрещения судеб» – комнату Паши, где в конце Лара находит уже мертвого Юрия, принадлежали в конце XIX – начале XX века Самариным и Трубецким.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу