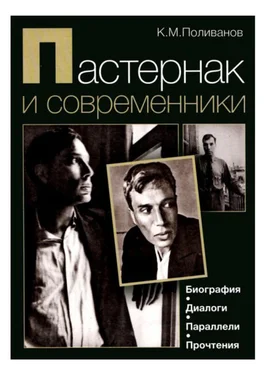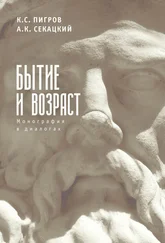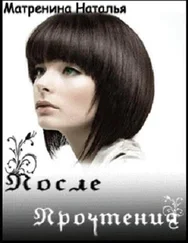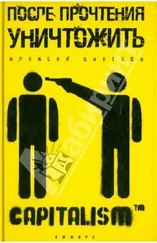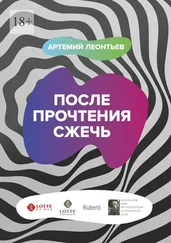Свои собрания стихотворений Ахматова всегда хотела представить репрезентативной последовательностью за все годы своего творчества. Название сборника «Бег времени» показывает, что стихи в ее понимании должны были дать именно картину ее жизни вместе с жизнью эпохи. Пастернак, напротив, не только никогда не включал в переиздания стихотворения из своих двух первых стихотворных книг, но всегда стремился убедить читателей и современников, что только его последние стихотворения оправдывают его литературный путь; процитируем письмо к Ж. де Пруайар: «…Я бы пожалел, что еще не вышел предполагавшийся сборник стихотворений по-русски, где, кроме старых, должны были появиться новые неизданные стихи. Он открыл бы переводчикам доступ ко всему моему стихотворному творчеству в целом, без этого они не подозревают о существовании основной его части и ограничиваются только старыми идиотскими книжками <���…>» (28 ноября 1958 года) [96].
Подобных высказываний о соотношении раннего и «сегодняшнего» творчества Пастернака с 1920-х и до конца 1950-х годов можно найти не меньше сотни.
Пастернак не только не «инициировал» дневников и воспоминаний, но декларировал свою боязнь подобного. Так, познакомившись с записками Марины Казимировны Баранович, он писал ей; «<���…> Ничего не говорю о Ваших записках и воспоминаниях! Мне стыдно, что я их знаю, что они дошли до меня. Ужасное свидетельство против меня, что я не догадываюсь, как воспрепятствовать их возникновению. Вот что по тому же поводу я (с оказией) написал в Тулузу M-lle Peltier: Je ne me reconnais pas dans la figure se bien dessine. J’admets qu’un pareil etre peut exister, mais ce n’est pas moi, cet homme existe dans une autre incarnation <���…>» (2 февраля 1957 года) [97].
Записки М. К. Баранович нам неизвестны, так как она по требованию Пастернака их уничтожила. Однако мы можем предположить, что для него был неприемлем сам этот жанр, а не содержание чьих-то конкретных мемуаров. Пастернак хочет, чтобы о нем знали то, что он сам написал в своих книгах, а в последние годы прежде всего – в романе «Доктор Живаго»: «<���…> Я маленький автор большой книги, которой предстоит своя судьба, и в ней ничего не изменишь» и «<���…> Моя участь исходит и зависит от нее <���…>» ( письмо к Ж. де Пруайар, 26 июня 1958 года), и фактически о том же: «<���…> Моя собственная судьба для меня не так важна, как судьба моих мыслей» (к ней же, 19 января 1958 года) [98].
Вспомним, что и повесть «Охранная грамота» замышлялась Пастернаком не как автобиография, а как сочинение о задачах искусства, о современной литературе и в значительной степени в этом жанре и выполнена. Пастернаковское утверждение в «Охранной грамоте», что он «не пишет своей биографии», а обращается к ней, когда «этого требует чужая», можно прочесть и так, что он «обращается» к эпизодам своей биографии, когда этого «требуют», в качестве иллюстрации, описываемые им принципы искусства. «Жизнь поэта», пишет Пастернак в «Охранной грамоте», – «непредставима в биографической плоскости», мы можем понять, что она как раз и требует художественного осмысления до того, как стать предметом описания. Поэт стремится «заменить» свою биографию своими художественными текстами – в 1958 году он предполагает вместо «автобиографического» предисловия к новому французскому изданию своих стихотворений «написать нечто вроде статьи о месте искусства в жизнеустройстве века» ( письмо М. К. Баранович, 2 мая 1958 года). При этом Пастернак вовсе не склонен к забвению своей жизни, истории своей эпохи, напротив, он полагает, что все это уже вошло в его стихи и прозу, и в особенности в роман «Доктор Живаго», написав который, он все свое предыдущее творчество начал оценивать лишь как подготовку («эскизы») к этому роману, и соответственно все ранние вещи, в том числе и вещи «автобиографические», «включены» в роман подобно тому, как первоначальные наброски и эскизы в какой-то степени «сохраняются» внутри «итоговой» картины. Уже работая над историческими поэмами «Девятьсот пятый год» и «Лейтенант Шмидт», Пастернак осознавал свою задачу «интимизации истории».
В результате интимизации жизни, биографии, эпохи – все это в трансформированном виде уже и впиталось стихами и прозой Пастернака, и уже само его творчество должно быть инструментом для понимания прошлого и настоящего, равно как эпохи русской истории и собственной жизни Пастернака в этой истории.
Как известно, Ахматова к роману «Доктор Живаго» относилась как к «гениальной неудаче», находила изображенную в ней эпоху русской жизни не соответствующей действительности. Свою литературную позицию – «свидетеля» и «участника» поворотных событий эпохи она хотела подкрепить собственными версиями (естественно, достаточно мифологизированными) истории литературной жизни и всей эпохи и, естественно, собственной версией своей биографии. Все это – как она, вероятно, считала, должно способствовать верному чтению ее поэзии. Пастернак же позицией поэта – «участника» и «свидетеля» наделил героя своего романа – Юрия Андреевича Живаго: он участник Мировой и Гражданской войн, свидетель всех революций и т. д. В противоположность ему сам Пастернак изображает себя лишь играющим в снежки во время революции 1905 года; если бы не мемуары брата – Александра Леонидовича и не письма отца – художника Леонида Осиповича Пастернака, мы бы не узнали, например, что Бориса во время разгона демонстрации казаками ударили нагайкой по спине – этот эпизод своей биографии он передаст одному из героев «Доктора Живаго». Поэту, совершившему интимизацию истории, в своей биографии этот эпизод уже не нужен.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу