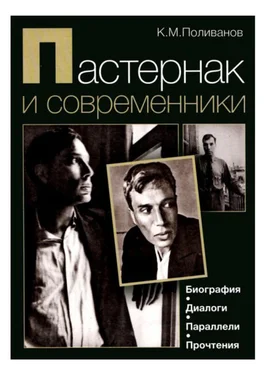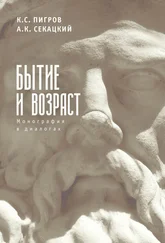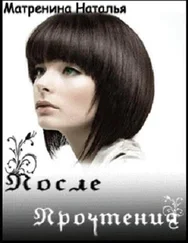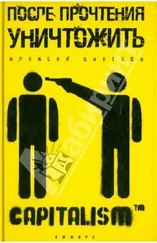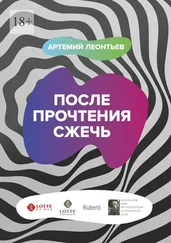В письме к М. Горькому по прочтении романа «Жизнь Клима Самгина» Пастернак как раз касается вопросов, неизбежно встающих перед писателем, обращающимся к истории недавнего прошлого: «…Странно сознавать, что эпоха, которую Вы берете, нуждается в раскопке, как какая-то Атлантида. Странно это не только оттого, что у большинства из нас она еще на памяти, но в особенности оттого, что в свое время она прямо с натуры изображалась именно Вами (заметим, что позже подобное можно было сказать и о самом Пастернаке – в романе «Доктор Живаго» изображение лета 1917 года в Мелюзееве несет явные отголоски описания того же момента «с натуры» в «Сестре моей – жизни». – К.П.) <���…> Но как раз тем и девственнее и неисследованнее она в своем новом, теперешнем состоянии, в качестве забытого и утраченного состояния нынешнего мира или, другими словами, как дореволюционный пролог под пореволюционным пером. В этом смысле эпоха еще никем не затрагивалась…» (М. Горькому, 23 ноября 1927 года ) [46]. Пастернак в последней фразе, видимо, не включал себя в «никем», поскольку лишь за полтора месяца до того он в письме тому же Горькому объяснял, что в «Девятьсот пятом годе» «революционную тему» брал «исторически, как главу меж глав, как событие меж событий» (М. Горькому, 10 октября 1927 года) [47]. Причем такой взгляд на революцию пятого года, а следом за ней и на революцию семнадцатого как на «главу меж глав», отменял восприятие революционного рубежа как конца «старого мира» и начальной точки отсчета «новой эры». Вместо этого появлялась естественная цепь вытекающих одно из другого событий, составлявших жизнь и судьбу поколения автора и героев его текстов.
Вновь именно по поводу «Девятьсот пятого года» Пастернак формулирует свою задачу в письме к К. А. Федину 6 декабря 1928 года: «Когда я писал “905-й год”, то на эту относительную пошлятину я шел сознательно из добровольной идеальной сделки со временем. Мне хотелось втереть очки себе самому и читателю, и линии историо-графической преемственности, если мне суждено остаться, и идолотворствующим тенденциям современников и пр. и пр. Мне хотелось дать в неразрывно сосватанном виде то, что не только поссорено у нас, но ссора чего возведена чуть ли не в главную заслугу эпохи. Мне хотелось связать то, что ославлено и осмеяно (и прирожденно дорого мне), с тем, что мне нужно, для того, чтобы, поклоняясь своим догматам, современник был вынужден, того не замечая, принять и мои идеалы <���…>». И далее Пастернак непосредственно определяет то, что, видимо, и занимало его в первую очередь в прозе Федина и Горького в сопоставлении со своими уже завершенными или замышлявшимися работами: «<���…> Когда-то для нашего брата было необязательно быть историком или его в себе воспитывать. Очень немногие поняли необходимость этого в наши дни. И хотя это понято по-разному, и велики политические различия между понявшими, но, странно, мне кажется, само искусство последнего времени (реалистическое и повествовательное) точно объединилось в одном безотчетном стремлении: замирить память хотя бы, если до сих пор нельзя помирить сторон, и как бы склонить факты за их изображеньем к полюбовной. Есть в этом какая-то бессознательная забота о восстановлении нарушенной нравственной преемственности. Это в одно и то же время забота и о потомстве, и о современниках, и о части поколения, попавшего в наиболее ложное положение (об эмиграции), и о Западе с его культурой, и вновь, наконец, о том, что все эти части вместе со множеством других, не перечисленных, содержит, – об истории <���…>» [48].
Итак, мы видим, что уже в декабре 1928 года Пастернак осознавал, что «воспитал в себе историка» и что его работа не только может идти вразрез с советской антиисторичной историографией, «ссорящей эпохи», но должна исподволь способствовать принятию читателями его исторических взглядов, признанию ими ценности предреволюционной эпохи, более того, восстанавливая преемственность, Пастернак видел в этом путь к преодолению искусственной духовной изоляции советской культуры от Западной Европы, а эмиграции – от метрополии.
Естественным развитием подобной позиции было и посвящение «Охранной грамоты» памяти австрийского поэта P. M. Рильке, и помещение в центр самой повести (которая рассматривала все ту же тему истории поколения не меньше, чем собственно биографию) рассказов о поездке в Марбург к Герману Когену (практически неизвестному в России в конце 1920 – начале 1930-х годов), а оттуда в Италию. Именно об «Охранной грамоте» Пастернак писал 28 марта 1931 года в письме Дж. Риви: «Это первая вещь, которую я без стыда увидел бы в переводе» [49]. Вспомним также о значении, которое позже придавал Пастернак откликам на «Доктора Живаго» из-за границы, в том числе и от эмигрантов, видя в этом «душевное единенье века».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу