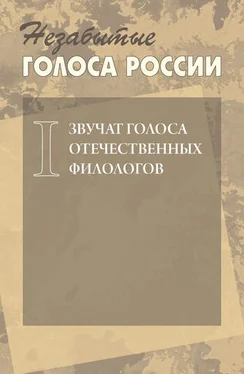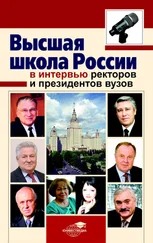Ну, я не знаю, много ли вы слышали о Сухотине. Кстати, вот Панов – знает его, учился в Городском педагогическом институте, где преподавал, между прочим, и Алексей Михайлович Сухотин (о Городском пединституте я скажу). И, кстати, Сухотин первый заметил Панова и мне сказал. Говорит: «Рубен Иванович, вот очень хороший студент». Так вот, значит, Сухотин. Сухотин – это сын Сухотина, мужа одной из дочерей Льва Николаевича Толстого. Имение Сухотиных рядом с имением Толстого, и Алексей Михайлович Сухотин (в нашем кружке он назывался «Феодал», это Александр Александрович его назвал), он из дворянской среды; Алексей Михайлович Сухотин в детстве сиживал на коленях у Льва Николаевича Толстого. Он кончил аристократическое учебное заведение, Училище правоведения, и пошел по дипломатической линии. Он был нашим советником царского посольства где-то в Черногории и в Сербии; война застала его на дипломатическом посту, он был переведен в Париж, кажется; видел многих государственных деятелей Франции того времени, я не помню, Пуанкаре, Мильерана и так далее. Ну, в общем, когда он приехал в Россию – до революции или сразу после революции, – не знаю; но я видел его анкетные данные – я вот не сказал, я его принимал на работу в Городской педагогический институт, у него написано там шестнадцатый, четырнадцатый или шестнадцатый год – советник посольства в Париже; восемнадцатый год – член ревтрибунала Тамбовской губернии. Как это получалось, я не знаю. Но у меня была тысяча и одна неприятность с ним на работе, так сказать; потому что анкета такая, что она никуда не годится вообще. Значит, вот появился Сухотин. Сухотин, как я уже сказал, собственно, по годам относился к поколению наших учителей; восемьдесят девятого года рождения. Да. Но он стал нашим, если хотите, младшим другом, потому что он имел образование, так сказать, общее – Школа правоведения; я не знаю, это значит, вроде юридического факультета, но такого аристократического склада. Но в начале двадцатых годов он был аспирантом Николая Феофановича Яковлева. Изучал турецкий язык; тюркские языки, и в частности непосредственно турецкий язык, и был учеником Яковлева. Это был талантливейший человек, острейший, остро воспринимавший все. Это был один из самых острых умов, который я вообще в жизни когда-нибудь встречал. Но он, повторяю, был вроде нашего ученика даже, потому что русистики он не проходил, вообще филологического образования у него не было, но он самоучкой доходил до того, до чего многие из нас не могли дойти путем профессиональной многолетней выучки.
Я не сказал, но вы это сами знаете, что в стороне от нас был Яковлев, который, собственно, и во многом является предтечей всей московской фонологии. Еще в двадцать третьем году вышла его «Таблица кабардинской фонетики» 9, кажется, где некоторые очень ясные фонологические положения остаются, сохраняют свою ценность до нашего времени. А немножко позднее, во второй половине двадцатых годов, у него превосходная статья «Математическая формула построения алфавита» 10; где, собственно, дано краткое описание фонологической системы в связи с ее отображением русской графикой и орфографией. Я думаю, что эта статья является этапной статьей вообще в истории развития фонологии. Таким образом, наши «дяди», так сказать, это, с одной стороны, Николай Феофанович Яковлев, с другой стороны, в какой-то мере, Дурново, который, во всяком случае, направлял нас в эту сторону, хотя сам этим не занимался; и наконец, наше постепенное объединение.
Итак, мы встречались в кругу, так сказать, «домашнем», потом, значит, в связи с реформой орфографии, наконец, с самого начала тридцатых годов постепенно стали мы встречаться в Московском городском педагогическом институте. В тысяча девятьсот тридцать втором году я был приглашен в Московский городской педагогический институт, который только что образовался, заведовать кафедрой русского языка. Кстати, в то время у нас никаких званий, степеней вообще не было. Значит, меня пригласили профессором; ну почему профессором, я не знаю. Значит, меня пригласили заведовать кафедрой и быть профессором этого университета. Я помню, когда через месяц или два оттуда позвонили домой: «Будьте добры, профессора Аванесова». А моя жена Лидия Моисеевна [Поляк. – Прим. ред. ] расхохоталась прямо в трубку: «Какого профессора Вам?». Она даже вначале не поняла. Ну, потом я сказал, что я стал профессором. Значит, я сразу стал организовывать кафедру. Ну, естественно, что первым делом я пригласил Владимира Николаевича, а потом постепенно вообще всех; вот тут я держу перед глазами, товарищи, не свою какую-нибудь рукопись, а чужую рукопись. У меня рукопись Реформатского, похожая на что-то о московской школе 11. Тут он перечисляет всех, кто был на моей кафедре. Значит, я организовал кафедру русского языка, ну я не знаю где, неважно. Бог с ним, в конце концов. Значит, в эту кафедру сразу я пригласил в разные годы все, что было в Москве вообще с моей точки зрения ценного. Это был Сидоров, это был Кузнецов, это был Реформатский, это был Сухотин, это был Григорий Осипович Винокур, о котором я еще отдельно скажу, это был Абрам Борисович Шапиро, Афанасий Матвеевич Селищев – он очень быстро вернулся из ссылки; потом, в середине тридцатых годов в Москву переехал из Ленинграда Сергей Игнатьевич Бернштейн, ученик Щербы, очень тонкий фонетист и глубоко интересовавшийся фонологией, – словом, все, что вообще могло быть. И надо сказать, что кафедра русского языка Московского городского педагогического института в тридцатых годах стала, собственно, основным центром лингвистической мысли, во всяком случае, в области фонологии русского языка, в Москве.
Читать дальше