Возникает вполне закономерный вопрос об источниках демонизации ресторана у символистов.
Очевидно, самые древние корни ресторанного локуса смыкаются с хронотопом пира, амбивалентным по своей природе. Сопровождая важнейшие события в человеческой жизни – рождение, свадьбу, похороны – пир, еда, питье, как показано в работах О. М. Фрейденберг и M. М. Бахтина, [96] См.: Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997. С. 56— 62: Бахтин M. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965. С. 302–328.
связывают мир живых с миром мертвых (загробные трапезы, Рай как вечный пир, приравнивание трапезы человеческой к трапезе божеской), объясняют присутствие смерти на празднике жизни и, наконец, мотивируют наиболее близкий к символистским представлениям сюжет «пира во время чумы».
В русской литературе превращение обычного ресторана, трактира, кабака в пограничный локус до символистов начинается в прозе Ф. М. Достоевского. Напомним, что обсуждение «проклятых вопросов» в романах писателя происходит в «съестно-выпивательных заведениях»: в трактирах, кабаках. Это относится не только к «Братьям Карамазовым», где контраст между содержанием бесед «русских мальчиков» и местом их встречи специально подчеркнут, но и, например, в «Преступлении и наказании» (разговоры Раскольникова с Мармеладовым и Свидригайловым или студента с офицером). И если в одном из названных романов черт эпизодичен и персонифицирован (но зато иронически снижен), то в другом, как выразился И. Анненский, «место его было центральное» – при полном отсутствии персонификации: Раскольников удивляется, как это никто до сих пор не додумался «взять просто-запросто все это за хвост и стряхнуть к черту».
Поскольку именно у столь ценимого писателями Серебряного века Достоевского одновременно с общей демонизацией города появляется концентрация демонических сил в отдельных локусах, этот художественный принцип не мог не отозваться и в произведениях писателей, не принадлежавших к символизму или даже от него далеких. Дорогой ресторан или жалкий кабак уподобляются преисподней в повести И. С. Шмелева «Человек из ресторана», и в «Коновалове» Горького, и в рассказах И. А. Бунина «Господин из Сан-Франциско» и «Петлистые уши». Таковы же публичный дом в «Тьме» Л Н. Андреева и «Фелицатин раишко» в «Городке Окурове», а балы-маскарады – форма проявления инфернальных сил не только в романе Андрея Белого «Петербург», но и в романе Ф. Сологуба «Мелкий бес», а также в «Голубой звезде» Б. Зайцева и «Ночном принце» С. А. Ауслендера. Одним из наиболее заметных наследников этой традиции в 1930—1940-е годы был М. А. Булгаков, с его знаменитым рестораном «Грибоедов» и балом Воланда в романе «Мастер и Маргарита».
И. С. Приходько. Веселый, веселье, весело, веселиться в символистском словаре Александра Блока
Ибо не вином только весел человек,
но всякою игрою своего божественного духа.
Вяч. Иванов
Слово веселый со всеми его производными – одно из знаковых в символистском словаре Блока. Наиболее часто оно звучит в Первом и, особенно, во Втором томе лирики. По данным 3. Г. Минц, в Первом томе – 19 употреблений слов этого ряда. [97] Минц 3. Г. Частотный словарь «Первого тома» лирики А. Блока // Труды по знаковым системам. V. Тарту. 1971. С. 313.
Во Втором, по моим подсчетам, – 28. Число их резко сходит на нет в Третьем – всего 9. Однако рассматриваемое слово в его специфических смыслах возвращается в поздних текстах: в поэме «Двенадцать» (1918) и в речи «О назначении поэта» (10 февраля 1921).
Это слово в его общеупотребительном значении в сопоставлении со словом радость, высокий духовный смысл которого раскрыл в своем исследовании А. Б. Пеньковский, [98] Пеньковский А. Б. Радость а у довольствие в представлении русского языка // Пеньковский А. Б. Очерки по русской семантике. М.: Языки славянской культуры, 2004. С. 61–72.
нередко воспринимается как лишенное духовного смысла, выражающее беззаботно-радостное состояние, склонное к развлечениям и другим проявлениям хорошего настроения и жизнерадостности. Именно такое определение дают все основные словари русского языка, [99] Словарь современного русского литературного языка. Т. 2. М.; Л., 1951. С. 215–219; Толковый словарь русского языка / Под ред. Д. Н. Ушакова. Т. 1. М., 1935. С. 259; Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. T. I. М., 2000. С. 163.
включая и Словарь языка Пушкина. Почти в каждом из них встречаем тавтологические определения: веселый – «склонный к веселью», весело – «в весельи», веселье – «веселость» [100] Словарь языка Пушкина: В 4 т. Ин-т языкознания АН СССР. Т. 1. М… 1956. С. 247–250.
и т. п.
Читать дальше
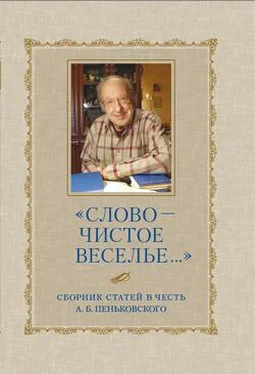




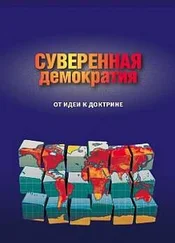



![Юрий Трифонов - Как слово наше отзовется… [сборник публицистических статей]](/books/423014/yurij-trifonov-kak-slovo-nashe-otzovetsya-sbornik-p-thumb.webp)


