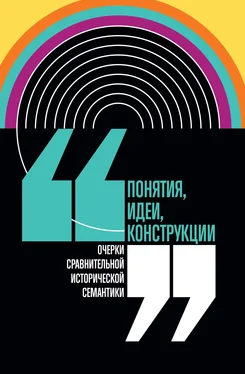В теоретической статье, написанной как введение к «Очеркам исторической семантики русского языка», Живов предлагает выстраивать лингво-историко-культурную альтернативу социополитической истории понятий на основании исследовательской традиции, восходящей к Виноградову [Живов 2009б]. Общность интересов между «историей слов» Виноградова и «историей понятий» Козеллека действительно налицо: данные языка (те предпочтения, которые оказываются тем или иным словам или типам слов) позволяют выявить специфический исторический опыт его носителей. Если для Виноградова история каждого слова заключала в себе ключ к социальному бытию и самосознанию тех, кто употреблял это слово с той или иной «окраской», то Козеллек сосредоточил внимание на появлении новых типов словоупотребления (коллективные «сингулярисы», темпоральные понятия, лексика, относящаяся к классовому и сословному самоопределению); в трансформации языкового узуса он искал симптомы модерности, то есть характерного для Европы XIX и XX веков опыта переживания времени [Koselleck 1979: 54; Koselleck 2006: 306–308]. Своего рода компромисс между лексикоцентричным подходом Виноградова и ориентированным на понятийные структуры методом Козеллека можно найти в исторической семантике Лео Шпитцера, который, полагая фундаментальные смысловые структуры неизменными, обнаруживал рефлексы исторического опыта в разнообразных лексикализациях этих структур, меняющихся во времени в зависимости от интенций языковых агентов [15] Важнейшие работы Шпитцера по исторической семантике собраны в книге: [Spitzer 1968].
.
Работы Лео Шпитцера позволяют прояснить различие между общими понятиями-идеями и конкретно-историческими преломлениями этих понятий, находящими отражение в языке. Так, его классическое исследование истории представлений об окружающей среде содержит множество примеров того, как одна идея множится и дробится в языке [Spitzer 1942]. Идею окружающей среды, восходящую к латинскому medium ambiens , а затем к греческому τὸ περιέχον, можно проследить в истории всей античной и западноевропейской культуры, однако выражалась она разными словами, которые передавали различные, иногда полемически противопоставленные смыслы. Так, представление о детерминирующих человека социальных условиях ( milieu ), сложившееся во второй половине XIX века, генеалогически совпадает, но семантически антитетично возникшему в то же время представлению об облекающей человека благотворной ауре, выражаемому фр. ambiance (англ. ambience ).
Согласно Шпитцеру, исторически конкретные смыслы закрепляются благодаря меняющейся форме слова. Например, английское mentality , которое было заимствовано во французский и немецкий, а затем и в русский, это не просто синоним слова mind ‘разум’; эти слова выражают определенное понимание умственной деятельности человека как чего-то принципиально неиндивидуального и, пользуясь формулировкой Шпитцера, нетворческого; ментальность – это продукт внешних влияний – среды, трактуемой как milieu , а не как ambiance . В других случаях новые смысловые нюансы не закрепляются в языке лексически, что приводит к тому, что одно и то же слово употребляется современниками с противоположными интенциями. Шпитцера, подобно Козеллеку и Скиннеру, занимают ситуации несогласия и спора о значении слов, однако подходит он к этой ситуации как бы с другой стороны. Если для Козеллека первичны социальные изменения, а для Скиннера – движение политической мысли, то для Шпитцера на первом месте человек с его глубинными психологическими нуждами.
Понятия (идеи, представления) и слова (лексикализации этих понятий) находятся в сложном диалектическом взаимодействии, причем именно язык, который позволяет переназвать, оспорить, аргументированно отвергнуть тот или иной смысл, оказывается тем полем, в котором понятия претерпевают исторические трансформации. Один из ярких примеров такого рода трансформации дает Ханна Арендт в первой главе своей книги «О революции», которая отчасти предвосхищает анализ нововременных понятий у Козеллека: глубинное преобразование смысла политического действия (бунта против существующего порядка) нашло отражение в изменении семантики слова, прежде отсылавшего к закономерным процессам обращения (revolutio) космических тел или систем политического устройства [Арендт 2011: 18–72].
Поскольку мы осязаем историчность идей в их языковых отражениях (лексикализациях), историческая семантика не может не быть ориентированной на язык, причем на язык, увиденный как инструмент деятельной мысли (в духе Гумбольдта), а не как предзаданная компетенция (именно так язык понимает современная структурная лингвистика).
Читать дальше