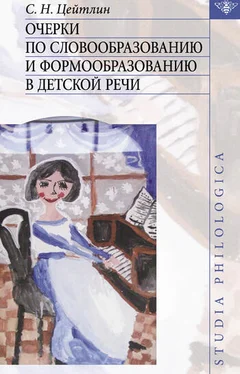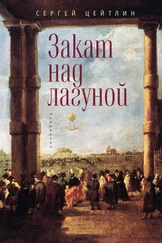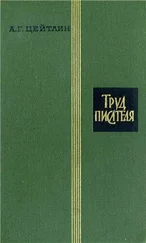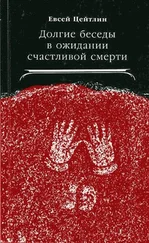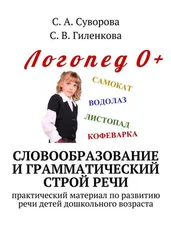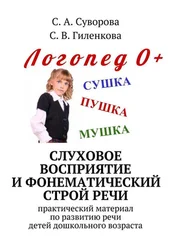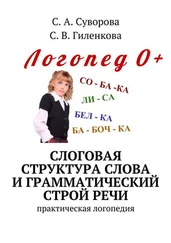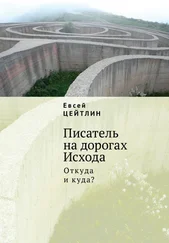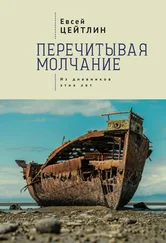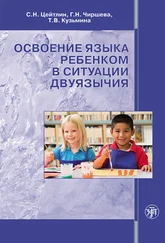Употребляемые на этой стадии будущие существительные (протосубстантивы) и будущие глаголы фигурируют в роли неких первоформ, которые выступают как представители лексемы в целом и в этом смысле принципиально отличаются от тех словоформ «взрослого» языка, слепком которых они являются. Подробнее их роль в становлении и развитии морфологического компонента языковой системы ребенка будет рассмотрена ниже; сейчас же мы остановимся только на вопросе о том, почему одни из них не меняют в дальнейшем своего облика, а другие перестраиваются поколениями детей с завидным постоянством.
Среди этих первоформ есть слова «мама», «папа» и подобные им, входящие в базовый лексикон любого ребенка. В дальнейшем их парадигмы достраиваются, пополняясь новыми словоформами, но не перестраиваются коренным образом. В некотором смысле подобные парадигмы могут считаться эталонными, прототипическими, поскольку они организованы максимально простым и экономным образом, различия между формами выражаются исключительно с помощью флексий, изменений в основе не наблюдается. В то же время среди первоформ есть значительное число слов, парадигмы которых являются не вполне стандартными, а некоторые из них могут считаться даже уникальными. Наличие значительного числа нерегулярных форм в начальном детском лексиконе вполне объяснимо: эти слова являются частотными в инпуте, а свойство нерегулярности связано, как известно, с частотностью. Именно частотность употребления слов в разговорной речи позволяет нерегулярным единицам сохранять свою грамматическую уникальность и не подвергаться сверхгенерализациям в ходе исторического изменения языка. Нерегулярные первоформы, образуя часть начального детского лексикона, выполняют свои функции наравне с регулярными, различия между ними оказываются значимыми только в долгосрочной перспективе: именно регулярные формы используются в первую очередь в качестве своего рода опор, на основе которых выстраиваются парадигмы других слов, а также осваиваются сами правила словоизменения.
К моменту появления продуктивной морфологии, т. е. обретения ребенком способности самостоятельно строить словоформы, переходя от одной словоформы к другой (чаще всего это происходит в последней четверти второго года жизни ребенка), значительная часть как регулярных, так и нерегулярных форм уже освоена достаточно прочно и потому при порождении речи извлекается, как это было на доморфологическом этапе, из памяти в целостном виде. Если же необходимая форма недостаточно прочно укоренилась в языковой системе или не встречалась до сих пор вообще, то она может быть сконструирована ребенком самостоятельно, при этом используется наиболее общее, стандартное (базовое) правило образования, поскольку именно такие правила возникают первыми в детском грамматиконе. Они представляют собой обобщения разнообразных самостоятельно осуществленных ребенком аналогий, в которых учитывается как содержательная, так и формальная сторона языковых единиц. При этом ребенок бессознательно стремится к соблюдению максимально простых и ясных (прототипических) соотношений как в формальной, так и в содержательной сфере. Поскольку созданию правила предшествует установление достаточно многочисленных аналогий, в качестве образца для подражания при конструировании словоформы становится единая для всех аналогий модель, максимально очищенная от всех морфонологических и прочих вариаций, касающихся как основы, так и форматива.
Так, общее правило организации парадигмы существительного, которое выступает в качестве базового и осваиваемого в первую очередь, можно сформулировать так: «При переходе от одной формы к другой оставляй основу без изменений и выражай различия исключительно с помощью флексий», например: стакан, стакан-а, стакан-у, стакан-ы, стакан-ами и т. п. Примеры детского формообразования по данному правилу, относящиеся к данному периоду: дом — дóм-ы , дóм-ами и т. п.; стул – стýл-ы , стýл-ами и т. п.
По отношению к регулярной форме сам факт самостоятельного конструирования остается, как правило, незамеченным, поскольку не ведет к появлению инновации. Если же уже употреблявшаяся в целостном виде на доморфологическом этапе словоформа была сконструирована по нерегулярной модели или относилась к разряду уникальных, она может быть перестроена ребенком в соответствии со стандартным правилом, вследствие чего появляется инновация. Это касается тех форм, которые отсутствовали или еще не успели прочно укорениться в лексиконе. Такие случаи были впервые описаны в ряде работ (Brown R. 1973; Cazden 1968; Ervin 1964; Kuczaj 1977; Slobin 1971) на материале речи англоязычного ребенка применительно к образованию форм прошедшего времени нерегулярных (неправильных) глаголов. Все исследователи единодушно отмечают, что нерегулярные глаголы появлялись в речи детей раньше, чем регулярные, но с появлением в речи регулярных глаголов, имеющих окончание -ED, нерегулярные глаголы подвергались перестройке, т. е. если дети сначала говорили, например, went и took , то затем в течение какого-то времени переходили на формы goed и taked , что свидетельствует о том, что вначале эти формы относились к разряду rote-learned, т. е. были освоены в целостном виде, а потом подверглись перестройке, когда ребенок осваивал стандартное правило. Данное явление получило в работах специалистов по детской речи наименование «overregularization» (сверхрегуляризация), которую можно рассматривать как разновидность сверхгенерализации («чрезмерного обобщения»), если распространить понятие сверхгенерализации не только на лексические, но и на грамматические явления. Термин «сверхрегуляризация» дополнительно подчеркивает направление генерализации (обобщения), совершаемой ребенком (от менее регулярному к более регулярному).
Читать дальше