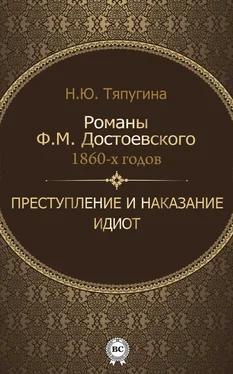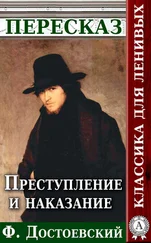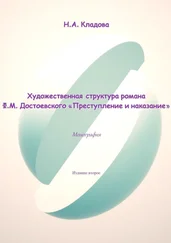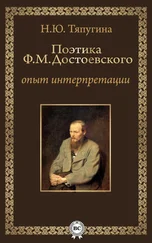В этом арифметическом мире посягают судить о священных предметах, не отдавая себе отчета в том, что речь идет об абсолютных ценностях, к каковым, прежде всего, относится сам человек, искание им добра и красоты. Именно притязательная нескромность, забвение своих границ и скоропалительность оценок приводит к опошлению человека, что, в свою очередь, выводит его за пределы абсолютных истин и толкает к личной катастрофе – он «нравственно падает».
Именно этот путь прошла «чрезвычайная красавица» Аглая. Ей многое было дано в жизни: красота, дружная семья, любовь к ней князя. Но «загадка» ее красоты разрешилась по-земному мелко и нелепо. То, что поначалу воспринималось окружающими как капризы красавицы, как дерзости домашней любимицы, постепенно приобрело отчетливый характер духовной слепоты и взбалмошного эгоизма. Ее чувство к князю носит покровительственный характер. Она, пожалуй, более стесняется его своеобразия в глазах обычных людей, чем отождествляет себя с любимым, и в качестве счастливой соперницы она не выказала ни великодушия, ни сострадания.
Вот почему всегда помнятся сказанные о ней слова ее матери Лизаветы Прокофьевны, которая хоть и любя, но грубовато-точно аттестовала дочь так: «Девка своевольная, девка фантастическая, девка сумасшедшая! Девка злая, злая, злая! Тысячу лет буду утверждать, что злая!» (322)
Гордость, самолюбие, боязнь показаться смешной – всё это свидетельства чрезмерной любви к себе и недостатка любви к другому. Чужие ценности для такого человека не становятся такими же дорогими, как собственные.
Именно это, видимо, и имел в виду Достоевский, когда устами князя Мышкина передал впечатление от красоты Аглаи и уклонился от оценки ее человеческих качеств: «Красоту трудно судить…»
И дело здесь не только в том, что Аглая намного превосходила всех своей прелестной внешностью. Дело в отношении самого князя к красоте. Его дар заключался в том, что он отыскивал в пестрой картине мира подлинные ценности, будь то их полное воплощение или бледные следы, намеки на них. Его любовный, приемлющий взгляд полон снисхождения к людям. Он всегда готов найти извиняющие мотивы даже для дурных поступков. Что уж говорить о тайне красоты, когда только Богу ведомо, какую жизненную стезю изберет ее обладатель, как распорядится своим незаурядным даром!
Вот почему к красоте у князя не только эстетическое отношение. Да, он был самым чутким ее поклонником (во всех формах и проявлениях), самым пылким ценителем, можно даже сказать, что он был Рыцарем Красоты, но созерцание красоты рождало в нем к тому же надежду на ее силу, веру в ее созидательный характер. Он потому-то и служит красоте, что она для него – божественная концентрация жизни, ее нравственный стимул. Вот отчего рождается стремление защитить красоту от грязи и унижений, вот отчего налицо безусловное служение ей. И, конечно, нельзя, невозможно предать разбуженный тобой процесс духовного самосозидания, который лишь один может привести к абсолютному воплощению красоты в ее земных пределах.
Вот почему именно Настасья Филипповна является хозяйкой его сердца, что именно в ней ощутил он готовность к духовному возрастанию, именно в ней распознал дар самотворчества. Более того, в этой красавице князь ощущал решимость пройти этот путь до конца: ее мятежное, страдающее сердце жаждало гармонии. Так открывается в полной мере смысл диалога князя и генеральши Епанчиной о Настасье Филипповне:
«– Так вы такую красоту цените?
– Да… такую… – отвечал князь с некоторым усилием.
– То есть именно такую?
– Именно такую.
– За что?
– В этом лице… страдания много… – проговорил князь как бы невольно, как бы сам с собою говоря, а не на вопрос отвечая (83).
Что касается благополучной Аглаи, то, конечно, ее духовный опыт несопоставим с жизненным опытом Настасьи Филипповны. Это в полной мере проявилось в ее отношении к князю Мышкину, и в особенностях его чувства к ней, и в событиях ее дальнейшей жизни. После трагически возвышенного ухода из разума князя и вообще из жизни Настасьи Филипповны вся последующая судьба Аглаи представляется особенно суетно-земной и досадной. Ее духовная близорукость и склонность к идолопоклонству в полной мере проявились в истории ее скоропалительного замужества – «после короткой и необычайной привязанности к одному эмигранту, польскому графу, вышла вдруг за него замуж» (614). Как и следовало ожидать, граф этот при ближайшем рассмотрении оказывается «даже и не граф, а если и эмигрант действительно, то с какою-то темною и двусмысленною историей» (615).
Читать дальше