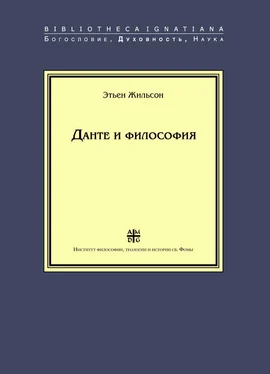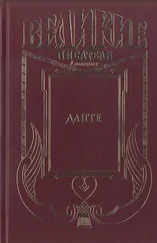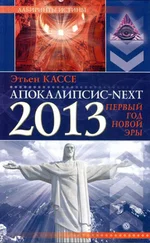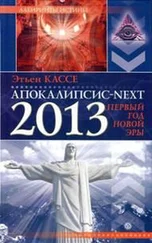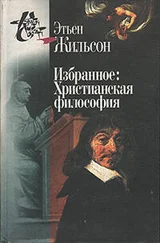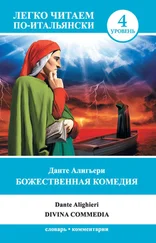В произведениях Данте, говорит о. Мандонне, есть три Дамы. Все три присутствуют в «Новой жизни»: Беатриче, Поэзия и Философия; две – в «Пире»: Беатриче и Философия; и лишь одна остается в «Божественной комедии», насквозь озаряя ее своей улыбкой: Беатриче. Ни одна из них не представляет реальной личности, но все три, как хочет доказать о. Мандонне [5], являют собой чистые символы. Первое доказательство заключается в том, что из этих трех Дам две безымянны и должны быть безымянными по причине самого имени, которое носит третья, – имени-откровения, достаточного, чтобы явить, кто эта Дама: «Беатриче, beatitudo, блаженство: никакое другое имя не должно появиться после этого» [6].
Такой довод сразу вводит нас в метод о. Мандонне. Теолог-томист, он непринужденно аргументирует именно как томист, словно заранее очевидно, что сам Данте не мог рассуждать иначе. Правда, у Фомы Аквинского существовало лишь одно блаженство, тогда как у Данте, к сожалению, их оказывается два. Сам Данте сказал об этом по-латыни в трактате «Монархия»: для человека существует двойная цель, hominis duplex finis existit, потому что есть два блаженства, beatitudines: первое – то, к которому мы приходим через философию; второе – то, к которому нас приводит христианское откровение [7]. Он также сказал это раннее по-итальянски в «Пире»: «Onde, con cio sia cosa che quella cheè qui I’umana natura non pur una beatitudine abbia, ma due» [ «Если на земле человек обладает не только одним видом блаженства, но двумя…»] [8]. Что бы ни пытались говорить в защиту того принципа, что существует лишь одно блаженство, такое объяснение нельзя приписать Данте.
Но даже если допустить, что Данте признавал существование лишь одного блаженства, что это доказывает в отношении Беатриче? Тот факт, что имя «Беатриче» означает «блаженство», не дает оснований заключать, что не существовало женщины, носившей это имя и любимой Данте. Можно любить женщину по имени Блаженство; можно даже любить ее, помимо прочих резонов, потому, что ее зовут Блаженством; наконец, можно любить женщину и называть ее Блаженством, потому что в любви к ней обретаешь счастье, а имя «Беатриче» как раз и означает «приносящая счастье». Но всё это не вовсе не опровергает реального существования женщины. Отзвуки, пробуждаемые женским именем, не чужды любви, которую вызывает женщина. Понятно, что женщина по имени Беатриче, Блаженство, могла быть не просто прекрасной возлюбленной, но и носить прекрасное имя для такой жаждущей счастья души, какой была душа Данте. Понятно, в качестве параллели, что Петрарка, страстно мечтавший о поэтических лаврах, мог влюбиться в Лауру. Но если, исходя из имени, делать вывод, что Беатриче была просто блаженством, придется параллельно заключить, что Лаура Петрарки была просто лавром.
Но допустим, мы согласимся со всем, что́ только что отрицали. Что это дает? Если есть только одно блаженство, и если это блаженство символизировать в образе вымышленного персонажа, ясно, что такой персонаж получит имя Беатриче, и никакой другой персонаж из фигурирующих в том же сочинении не будет носить этого имени. Но непонятно, почему другие персонажи той же книги не имеют права носить другие имена? Между тем именно с этим нас призывают согласиться в силу логики: дескать, «Беатриче» означает «блаженство», но существует только одно блаженство; значит, никто больше не может носить имен. Этот занятный паралогизм был бы необъясним, если бы не был абсолютно спонтанной защитной реакцией против возражений здравого смысла, не позволяющих себя заглушить. Вот книга, где фигурируют три Дамы: одна из них носит имя собственное, две другие безымянны. Если делать какие-либо догадки на этот счет, то в первую очередь будет естественным предположить, что Дама, обладающая именем, – реальная женщина, в отличие от двух других, которые суть чистые символы. Как только эта мысль приходит в голову, здравый смысл тотчас получает подкрепление от весомого позитивного довода: если бы Беатриче была просто символом, она мелькнула бы в творениях Данте лишь однажды, ибо в них нет ни одного другого надежного примера, когда чистый символ обозначался бы именем собственным. Разумеется, этот факт не доказывает с неопровержимостью существования Беатриче, но он наводит на мысль о нем; во всяком случае, вряд ли можно утверждать, что он указывает на обратный тезис – тот, который хотят с его помощью доказать.
За доводом о. Мандонне скрывается затаенная, но непоколебимая уверенность, что Беатриче есть чистый символ всего того, что доставляет человеку блаженство, – иначе говоря, символ «христианского откровения или, вернее, христианского сверхъестественного порядка во всей его конкретной реальности: в исторических фактах, учениях и культурной практике» [9]. Как видим, это довольно широкий символизм, который позднее позволит отождествить Беатриче с самыми разными вещами. Но, кроме того – и для нас это в настоящий момент важно, – это символизм, подсказывающий объяснение странного рассуждения, которое мы только что воспроизвели. Если Беатриче есть сама христианская жизнь в ее функции подательницы блаженства, и если две другие Дамы – Поэзия и Философия – претендуют на выполнение той же функции, они не имеют права носить это имя, так как не имеют права исполнять эту функцию. А поскольку они фигурируют в «Новой жизни» и в «Пире» именно как узурпаторши функций, обозначаемых именем Беатриче, они не только не имеют права носить имя той, которая эту функцию осуществляет, но вообще не имеют права носить какое-либо имя. Понятый таким образом, довод о. Мандонне, конечно, перестает быть паралогизмом; но дело в том, что такое понимание предполагает принятым тот самый тезис, который этим доводом должен быть доказан.
Читать дальше