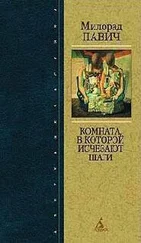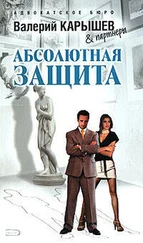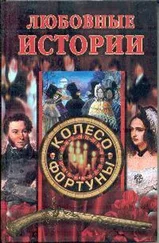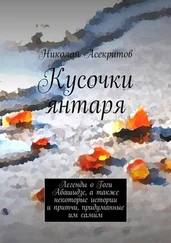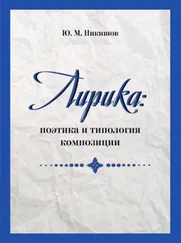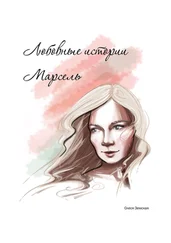Ряд подобных несоответствий (вплоть до прямого контраста) между жизненным переживанием и его поэтическим воплощением окажется длинным. О чем это говорит? Проблема сложная, в ней необходимо разобраться.
«Раздвоение» линий поведения Пушкина на бытовую и поэтическую фиксируется нередко. Повод к тому дает стихотворение «Поэт», оно на слуху. Пушкин вполне демонстративен: мало того, что он провозглашает автономию частной и творческой жизни поэта, но еще и нарочито заземляет облик поэта в его частной жизни: «меж детей ничтожных мира, / Быть может, всех ничтожней он». Пушкин дерзновенно срывал освященные традицией покровы с алтаря искусства, в почти божественном лике художника-творца он прозревал не просто земные, а утрированно земные черты. Здесь – одно из проявлений его новой позиции «поэта действительности», указание на прочные нити, связующие искусство с живой жизнью. Возможно, речь идет и об особой интимной близости «высокого» и «низкого», о чем категорично написала Анна Ахматова:
Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда,
Как желтый одуванчик у забора,
Как лопухи и лебеда.
Д. С. Лихачев, отмечая устремленность поэзии Пушкина к идеалу и способность поэта создавать идеал (в любви, в дружбе, в печали и в радости, в военной доблести, во многом еще), не обходит и позволение поэта быть «всех ничтожней». Выделяя человеческую простоту и обыденность образа поэта, ученый напоминает те же ахматовские строки о «соре», из которого растут стихи, заключая выразительной антитезой: «На чистом мраморе не растут цветы» [2] Лихачев Д. Знамя нашей культуры // Пушкинист: Выпуск I. М., 1989. С. 159.
.
И все-таки пушкинская гипербола настораживает:
заострение дано там, где насущно необходимо чувство меры.
Возглашая право поэта быть в мире «всех ничтожней», Пушкин рисковал допустить большую, непоправимую человеческую ошибку. Нравственные послабления юных и средних лет создали репутацию, переломить которую в глазах современников (и значительной части потомков) оказалось невозможным. Поползли новые гнусные слухи. «Ничтожные» мира сего были рады возможности принизить поэта до самых ничтожных. Жизнь жестока: за все ее радости, даже мелкие, приходится платить порой непомерную цену.
Но Пушкин не унизился до ничтожных мира сего. Даже позволяя себе по молодости нравственные послабления, он отнюдь не порывал с кодексом чести, варьируя его. Убедительное для всех предсмертное величие души его возникло именно не «вдруг», но закономерным итогом всей жизни. Человеческая значительность Пушкина – не результат нравственного пуританства, но последовательное восхождение к вершинам через преодоление соблазнов и искушений.
Нет надобности ради хрестоматийного глянца закрывать глаза на человеческие слабости Пушкина: он платил «безумству дань». Но неправомерно принцип не выделяться «меж детей ничтожных мира» счесть нормойего представлений о жизни, тем более – неизменной нормойповседневной практики.
Далее новая проблема. Бывает, что стихи рождает непосредственное потрясение случившегося переживания. Чаще творческий импульс отталкивается от памяти. Достоверно сообщение, что Пушкин наблюдал за игрой юной Марии Раевской с набегающими волнами. Известны строки из первой главы «Евгения Онегина»:
Я помню море пред грозою:
Как я завидовал волнам,
Бегущим бурной чередою.
С любовью лечь к ее ногам!
Они связывались с именем М. Раевской. Но В. А. Кошелев показывает, что этот фрагмент первоначально возникал в черновике неоконченной поэмы «Таврида», имея несколько иной вид. Исследователь полагает, что «история этой строфы… дезавуирует известное указание в “Записках” М. Н. Раевской на то, что строфа посвящена какому-то конкретному эпизоду совместного путешествия Пушкина и Раевских в Крым…» – поскольку «Пушкин… первоначально вспоминал совсем не “море пред грозою”, а “наклон гор”» [3] Кошелев В. А. "Онегина" воздушная громада… 2-е изд. Большое Болдино – Арзамас: АГПИ, 2009. С. 17–19.
. Но ведь вполне возможно, что, включая в «Онегина» ранее и по другому поводу написанные строки, перенося место действия с гор на побережье, поэт и вносил поправку под импульсом воспоминаний о путешествии с Раевскими.
Онегинские строки отчетливо акцентируют дистанцию между переживанием и поэтическим воспроизведением его («Я помню…»). Фактически отражена типическая ситуация. Практически всегда требуется какое-то время для того, чтобы переживание творческого человека добралось до озвучивающих клавиш его души. Временной промежуток может быть несущественным, отклик возможен в «зоне переживания». У поэта-профессионала солиден слой ассоциативных связей. И – нелегкий вопрос: память без изменений воспроизводит пережитое или в процессе воспоминаний, с учетом последующего опыта и самой ситуации воспроизведения переживания, происходит существенное переосмысление былого? О возможности чрезвычайно существенных перемен восприятия (включая перемену эмоционального знака!) под воздействием хода времени свидетельствуют пушкинские строки:
Читать дальше