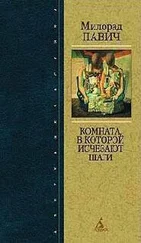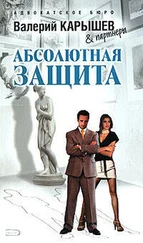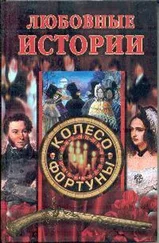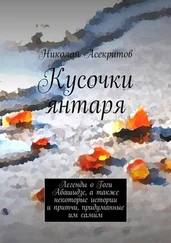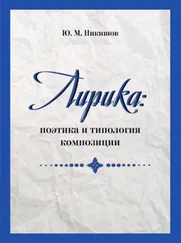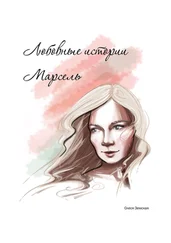Два побудительных мотива вступают во взаимодействие, что можно видеть уже в начальной строфе:
Дитя харит и вдохновенья,
В порыве пламенной души,
Небрежной кистью наслажденья
Мне друга сердца напиши…
«Друга сердца» предлагается написать «кистью наслажденья» – «в порыве пламенной души». Если разобраться, сочетание оксюморонно, ибо сближает разные стороны человеческого мировосприятия. «Кисть наслажденья» восходит к эпикурейской эротике, которой Пушкин платил щедрую дань и не спешит расставаться с нею. «Порыв пламенной души» – это свойство пушкинского темперамента одушевить даже плотское влечение; порыв души, души пламенной, способен творить чудо превращений из низкого в высокое.
Декларация начальной строфы находит подтверждение в словесном портрете юной красавицы, друга сердца.
Красу невинности прелестной,
Надежды милые черты,
Улыбку радости небесной
И взоры самой красоты.
‹…›
Прозрачны волны покрывала
Накинь на трепетную грудь,
Чтоб и под ним она дышала,
Хотела тайно воздохнуть.
Действительно, основу портрета составляют приметы сладострастия, но как все преображает волшебная палочка таланта художника! Особо хочу выделить, что опорные образы напрямую прорастут в пушкинском шедевре – гимне в честь женщины «К * * *» («Я помню чудное мгновенье…»). Прежде всего, рифма «черты – красоты»: в «Я помню…» в непосредственном сочетании она не встретится, но оба слагаемые – опоры мужской рифмы на всем протяжении стихотворения. Далее – эпитеты. Будет прямое повторение – «милые черты». Останется эпитет «небесной» (в ином сочетании). А вот игривое «прелестной» к «Я помню…» не подойдет.
Еще одно. Элементы сладострастия в этом и – резче – в предыдущих стихотворениях шли от мужского восприятия; правда, и изображаемые женщины (Эвлега, Дорида, Хлоя и т. п.) отвечают таким претензиям мужчин и сами не требуют от них большего. В словесном портрете «друга сердца» есть заявка на иное: «Красу невинности прелестной…» (отсюда же «мечта любви стыдливой»). Здесь первая попытка расчленить мужское и женское мировосприятие. Нет, женщина воспринимается полностью глазами мужчины; но в одной фразе – возможность самостоятельной духовной жизни женщины. «Краса невинности» (именно в силу невинности) может не осознавать себя, не использовать себя как оружие для завоевания мужчины; но способность мужчины увидеть эту автономию духовного мира женщины и есть залог более глубокого и полного духовного отношения к женщине. Пушкин пройдет этот путь.
В некоторых стихотворениях 1815 года показывается предельность эпикурейского миропонимания в столкновении со сложностями жизни. Переводя опорные идеи балладного творчества 1814 года в личный план, Пушкин подвергает их сомнению. Напомню удобное эпикурейское напутствие Сатира в «Блаженстве»: утешиться вином, если уходит любовь, найти другую подругу, если изменила прежняя. Поэтическим воображением поэт пробует проверить оба напутствия применительно к собственному миропониманию.
Первая проба – «Измены». Рисунок стихотворения сложен. Поэт вспоминает былое:
В юности страстной
Был я прекрасной
В сеть увлечен.
Однако страсть осознается как «мученья», поэт решает, что «полно страдать», и добровольно пытается забыть гордую Елену.
Сердце, ты в воле!
Всё позабудь;
В новой сей доле
Счастливо будь.
Чтобы успешнее достичь цели, поэт пробует изжить память о возлюбленной новыми увлечениями:
Прошлой весною
Юную Хлою
Вздумал любить.
‹…›
Лилу, Темиру,
Всех обожал,
Сердце и лиру
Всем посвящал.
Результат оказывается неожиданным:
Тщетны измены!
Образ Елены
В сердце пылал.
Концовка стихотворения элегична.
Тщетно взывает
Бедный певец!
Нет! не встречает
Мукам конец…
Опыт юного пастуха, охотно и к своему удовольствию внимавшего советам Сатира («Блаженство»), оказывается неприемлемым, когда проигрывается в сознании поэта. Не приходит и мысли следовать ригористическому решению Осгара, в сходной ситуации искавшему почетной смерти (хотя Пушкин воображаемо и примерял на себя военный мундир, в целом его мировосприятие сугубо штатское). Певцу в «Изменах» суждено уныние до могилы; отчасти оно воспринимается возмездием за ошибку юности – отступничество от Елены, за измену, получается, самому себе.
Читать дальше