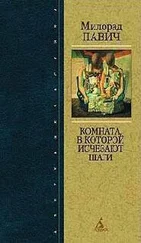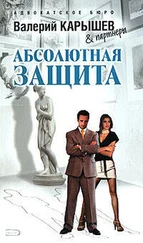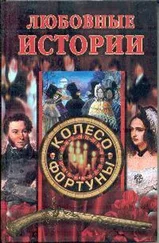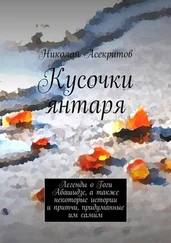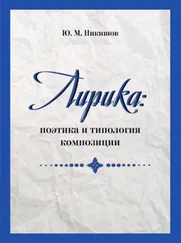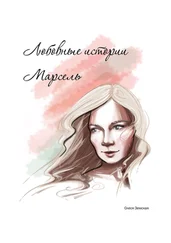К живописцу
В иных же случаях неизбежны оговорки: «Увы! я счастлив был во сне…» («Послание к Юдину»). И даже больше: любовь и счастье, так естественно соединяемые применительно к чужому опыту, в личном сознании Пушкина предстают как альтернативы. Собственно, с этого и начинается.
Так и мне узнать случилось,
Что за птица Купидон;
Сердце страстное пленилось;
Признаюсь – и я влюблен!
Пролетело счастья время,
Как, любви не зная бремя,
Я живал да попевал…
К Наталье
Поэт принимает решение, которое, оказывается, выполнить невозможно, но сам порыв представляет интерес:
«Добрый путь! Прости, любовь!
За богинею слепою,
Не за Хлоей, полечу,
Счастье, счастье ухвачу!»
Опытность
Поэт вынужден задать вопрос: почто «любовию младой / Напрасно пламенею?» («Городок»).
Юный Пушкин проявляет высокую принципиальность. Он не завистлив и позволяет своим героям искать и находить счастье в любви. «Чужой» опыт очень нужен ему самому, ибо опережающим образом проигрывается модель поведения, вырабатывается его кодекс чести. Но поэт сам не предстает счастливчиком, а если и бывает счастлив, то не скрывает – лишь в мечтах.
Вот почему слагаемые счастья – удовлетворение достигнутой целью и высокая степень наслажденья – воплощаются как опыт героев, но не как личный опыт (с одной оговоркой: Пушкин получает безусловное удовлетворение как поэт). Под этим углом зрения находит объяснение странное восклицание:
Блажен, кто в низкий свой шалаш
В мольбах не просит Счастья!
Мечтатель
Но все логично, если понимать счастье как наслажденье.
Если же счастье воспринимается не как синоним любви, но альтернатива ей, то возникает и иное содержательное наполнение этого понятия – не как удовлетворение и наслаждение. Теперь счастье понимается как внутреннее состояние души человека, его лад с самим собой и с миром. В этом случае счастье даже стесняется себя и находит синоним – покой, тоже употребительное слово в творчестве Пушкина: «Блажен, кто веселится / В покое, без забот…» («Городок»); «Где ты, ленивец мой? / Любовник наслажденья! / Ужель уединенья / Не мил тебе покой?» («Послание к Галичу»); «Люблю я праздность и покой, / И мне досуг совсем не бремя…» («Моему Аристарху»); «Теперь, когда в покое лень…» («Послание к Юдину»); «Приди, о лень! приди в мою пустыню. / Тебя зовут прохлада и покой…» («Сон»); «Спешите же под сельский мирный кров. / Там можно жить и праздно и беспечно. / Там прямо рай…» (там же).
Слагаемых умиротворенного состояния человеческого духа выявляется много, а их дополняют и ценности переменные, настроенческие, временные. Набор переменных ценностей, которые то утверждаются, то иронически понижаются, широк: заслуживает внимания всё, на что откликается пушкинская душа. Другой вопрос, что степень категоричности утверждения тех или иных ценностей тоже необходимо учитывать.
Можно ли говорить о системе, если она так сложна и противоречива? Можно. А если она сложна и противоречива, то это всего лишь ее объективные свойства. И, видимо, правильнее говорить не о противоречиях системы, но о том, что эта система представляет собой комплекс оппозиций: уединение/свет, село/город, одиночество/дружество, тишина/шум, покой/суета, безвестность/слава. Выделим и еще некоторые.
Пушкин настойчиво утверждает приоритет веселья (веселости): «Веселье! будь до гроба / Сопутник верный наш…» («К Пущину (4 мая)»). Однако даже этому столь непререкаемо утверждаемому принципу находится оппозиция.
Страдать – есть смертного удел.
Воспоминания в Царском Селе
Но всё ли, милый друг,
Быть счастья в упоенье?
И в грусти томный дух
Находит наслажденье…
Городок
Веселью противостоят грусть, страдание, утраты – и насколько это раздвигает мир Пушкина, где возникают и контрастные краски, и полутона! Это – живая жизнь, вдыхаемая полной грудью.
Нормально, что эмоциональные знаки, с которыми в лицейскую лирику входят понятия страдания, грусти, утрат, весьма различны: все зависит от угла зрения. Они, как в приведенных примерах, утверждаются, включаются в число эстетических ценностей. Но с позиций «веселья» они воспринимаются помехой и вызывают досаду. В оппозиции грусть/веселье грусть не надо призывать, обстоятельства способствуют ее самозарождению, тогда как побудительный источник веселья порою не надежен, вроде «крылатого сна»:
Исчезнет обольститель,
И в сердце грусть-мучитель.
Читать дальше