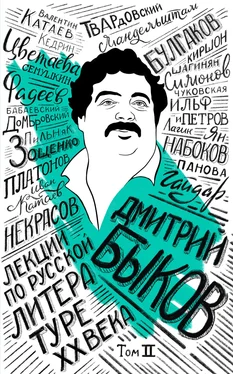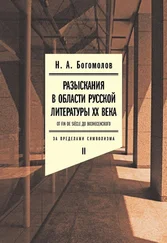Мандельштам – поэт не такой уж сложный, сложность его преувеличена. Просто надо подходить к его текстам несколько иначе. Мы привыкли, что единицей, кирпичиком, главным строительным элементом в стихах является строфа, отсюда русская станцевая культура. Stanza, четверостишие, строфа – носитель законченной мысли. А у Мандельштама каждая строка отдельно, как замечательно писал про него Шкловский в 1922 году ещё в «Сентиментальном путешествии», вспоминая их общее пребывание в Петроградском доме искусств. Каждая строка – носитель стихотворного смысла, в каждой строке с помощью сожжённых мостиков, с помощью множества звеньев сконцентрирован огромный литературный и человеческий смысл. Это очень плотная литература, поэтому рассказ и очерк Мандельштама – это, как правило, сжатая, сконцентрированная повесть.
Как Шёнберг говорил, что в любом его трёхминутном сочинении сконцентрирован материал на целую симфонию, точно так же и «Египетская марка», как ни странно это звучит, – это роман, хотя весь этот роман я мог бы прочесть за 20 минут, которые отведены у нас на лекцию. Конечно, ничего бы не было понятно, но это было бы в любом случае несколько более плодотворно, чем о ней рассказывать. Комментарии к «Египетской марке», которые составлены Олегом Лекмановым и Марией Котовой и сейчас уже изданы, превышают объём этой повести примерно в 10 раз, а количество литературы, которая написана о ней, думаю, раз в тысячу.
Дело в том, что «Египетская марка» – текст, не рассчитанный на прямое усвоение, на обычное чтение. Он рассчитан на долгую расшифровку, он, строго говоря, написан так не потому, что советская власть ввела цензуру, а потому, что Мандельштам изобрёл новый способ рассказывать историю. Почему он это сделал? Это довольно естественная вещь для него как для поэта, он же сам говорил, что мыслит опущенными звеньями. Авторская мысль летит, а маршрут её полёта приходится восстанавливать самим с помощью начального и конечного звеньев. Вольные ассоциации прихотливо организуют эту прозу.
«Египетская марка» – ненаписанный Мандельштамом роман, который, по большому счёту, состоит из заметок на полях прозы.Так бы я определил его жанр. Когда скучно писать, описывать события с начала до конца, и главное – роман-то кончился, потому что кончился герой. Сохранились другие возможности, жанровые формы. Надо вообще сказать, что роман в 20-е годы переживает очень серьёзный кризис и ряд замечательных прорывов. Вот об этом нам, наверно, придётся сейчас поговорить, сделать долгий экскурс в сторону, чтобы объяснить, почему мандельштамовская «Египетская марка» – такая странная литература.
Что происходит в 20-е годы с прозой? Надо как-то осваивать, осмысливать материал русской революции, материал, во время которого сословные, возрастные, географические границы очень сильно спутались, всё колоссально сместилось. Осваивать это с помощью традиционной прозы как-то смешно. Получается уже описанный нами роман Вересаева «В тупике». Действительно, всё герои этой прозы чернильные, искусственные. Появились новые люди, для которых старые приёмы не годятся. В результате проза начинает переживать колоссальную ломку. Скажем, титанические попытки старой формы сладить с новой реальностью – это роман Константина Федина «Города и годы», роман плохой, но необычайно интересный и талантливый. Плохой потому, что форма разлезается. Попытки натянуть на русскую революцию каркас старого авантюрного романа, да ещё серапионы любят западную литературу, чтобы там были сюжет, совпадение, роковые случайности, – это всё начинает трещать по швам. Читать «Города и годы» невозможно, потому что герои, кажется, толкутся на крошечном пятачке фабулы, всё оказывается полным какими-то роковыми совпадениями. Возлюбленная приезжает к Андрею Старцеву ровно в тот момент, когда от него беременна другая, роковой злодей встречается ему то в Германии, то в России, немецкий художник Курт Ванн оказывается неожиданно вождём восстания в российской глубинке. Невозможно натянуть традиционную фабулу на клокочущую лаву русской революции, всё трескается. Но получается забавно и даже по-своему показательно.
Роман распадается, формы этого распада становятся очень занятны. Появляются романы Всеволода Иванова «У» или «Кремль», где герой появляется в главке и немедленно исчезает. Иногда от него остаются только инициалы, иногда только фамилии. Стоит неподвижная камера, перед ней проходят люди, сюжета нет, есть непрерывная череда возникающих и пропадающих типажей. Есть другие, ещё более авангардные формы романа, такие как леоновские попытки написать «Вора», роман в романе в романе в романе, где писатель Леонов пишет роман про писателя Фирсова, который пишет роман про своего двойника, и всё это отражается в огромной системе зеркал, потому что человек больше не видит себя со стороны. Он плодит бесконечных зеркальных двойников, каждый из них отражает одну грань, а цельный образ невозможен. Строго говоря, цельный образ был невозможен и в «Герое нашего времени», где тоже вместо единого повествования у нас роман в новеллах, и таких романов довольно много.
Читать дальше