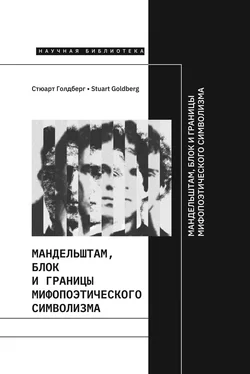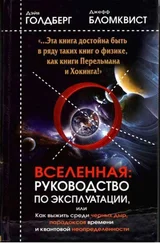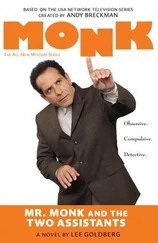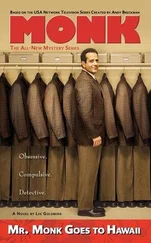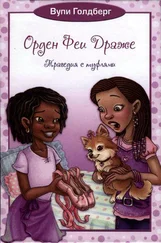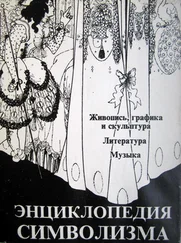Символисты, стоит заметить, демонстрировали большое понимание вопросов оригинальности, первенства и влияния. Так, Брюсов писал в 1920 г.:
…часто места, по внешнему содержанию вовсе не сходные, глубже вскрывают влияние другого писателя, нежели почти тождественные. В самой настойчивости отрицания того или другого метода можно иногда вернее проследить влияние, нежели в подражаниях 89.
Трудно подобраться ближе – в рационалистическом языке Брюсова – к основополагающему принципу «страха влияния» Блума, освобожденного от фрейдистских и романтически-метафорических облачений. Даже среди младших символистов с их религиозной/мистической наклонностью и жаждой соборного творчества де-факто правил код оригинальности. Ср. следующее письмо, написанное Блоком Сергею Соловьеву в декабре 1903 г., вскоре после публикации «Urbi et orbi» Брюсова:
Фамилия твоя приклеена к твоим стихам. <���…> По-моему, в ней [«Королевне»] нет подражания Белому. Спешу тебя уверить, что ты мне никогда не представлялся «скромным тружеником» <���…>. Можно ли писать: «Мальчик на горку уж ввез санки с обмерзлой веревкой»? Ведь это уже написано в «U et O»! Не потерплю такой узурпации относительно Брюсова и отомщу тебе кинжалом – в свой час. Впрочем, надо полагать, что скоро сам напишу стихи, которые все окажутся дубликатом Брюсова 90.
Во-первых, Блок как будто отвечает на озабоченность, видимо высказанную ранее самим Соловьевым, что он (Соловьев) может быть слишком зависим от Белого, даже что все его последние стихи подражательны (что его имя приклеено к чужим стихам). Затем он шутя критикует Соловьева за подражание Брюсову; он сам вставляет парафраз из брюсовского послания Белому в «Urbi et Orbi» и, наконец, безошибочно предсказывает свою будущую зависимость от стихов Брюсова. Мы видим, таким образом, что для Соловьева и Блока оригинальность (а значит, первенство) составляет предмет заботы и рабочий критерий для оценки поэзии, хотя и не является, по крайней мере для Блока, предметом страха ( anxiety ).
Блок-символист кажется во многом свободным от поэтического страха; и действительно, та легкость, с которой он заимствовал, привела к несколько лукавым комментариям Мандельштама:
Начиная с прямой, почти ученической зависимости от Владимира Соловьева и Фета, Блок до конца не разрывал ни с одним из принятых на себя обязательств, не выбросил ни одного пиетета, не растоптал ни одного канона. Он только усложнял свое поэтическое credo все новыми и новыми пиететами <���…> ( СС , II, 273–274).
Поэзия Блока, возможно из‐за ее большой «восприимчивости», дает несколько замечательных примеров блумовского апофрадеса – открытия стихов поэта духам мертвых, при котором «сверхъестественный эффект состоит в том, что новое стихотворение кажется нам не таким, как если бы его написал предшественник, но таким, как если бы позднейший поэт сам написал характернейшее произведение предшественника». Ниже Блум пишет: «Читая „Le Monocle de Mon Oncle“ [Стивенса] сегодня, отдельно от других стихотворений Стивенса, я поневоле слышу голос Эшбери, ибо он захватил власть над этим модусом заслуженно и, возможно, навсегда» 91. Так же и в некоторых стихах Фета конца 1880‐х гг. до странности невозможно не слышать сегодня блоковских интонаций. То, что было случайным у первого, стало главным для второго 92.
В поэзии Мандельштама можно почувствовать если не страх, то по крайней мере осведомленность о поэтическом опоздании как о проблеме, требующей решения. Самое красноречивое его высказывание о поэтической запоздалости – следующее стихотворение 1913 г.:
Отравлен хлеб и воздух выпит.
Как трудно раны врачевать!
Иосиф, проданный в Египет,
Не мог сильнее тосковать!
Под звездным небом бедуины,
Закрыв глаза и на коне,
Слагают вольные былины
О смутно пережитом дне.
Немного нужно для наитий:
Кто потерял в песке колчан;
Кто выменял коня – событий
Рассеивается туман;
И, если подлинно поется
И полной грудью, наконец,
Все исчезает – остается
Пространство, звезды и певец!
Хорошо известно, что воздух – частый символ поэтической свободы и поэтического творчества в поэзии Мандельштама, регулярно повторяющийся почти от первого до последнего его стихотворения 93. В приведенном стихотворении воздух «выпит», исчерпан. Более того, если оттолкнуться от тезки поэта, Иосифа, библейского толкователя снов, исчерпали его ревнивые и бесталанные братья 94. Этот образ поэтического лишения контрастирует с изображенным в последних трех строфах поэтическим золотым веком, далеким от «поэта» не хронологически, а культурно, в импровизационном устном творчестве бедуинов – раскованных поздних поэтов 95. Эти свободные художники принадлежат к сфере нескованного творчества (их « вольные былины» контрастируют с образом Иосифа, проданного в рабство), к пространству, где дышится и поется «полной грудью». Наконец, именно эта ничем не стесненная, однако же недостижимая для «поэта» свобода может служить преодолению любых пространственных границ и встрече лицом к лицу с вечными звездами.
Читать дальше