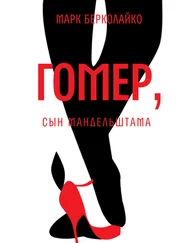И, если подлинно поется,
И полной грудью, наконец,
Все исчезает – остается
Пространство, звезды и певец!
В первой строфе говорится о тоске и нанесенных ранах, о мучительном состоянии лирического героя, его страдания сравниваются с муками библейского Иосифа, проданного братьями в рабство, а последние три строфы – рассказ о бедуинах, что по вдохновенному наитию слагают «вольные былины» и провозглашается бессмертие «подлинной» поэтической песни. Но где связь между первой строфой и тремя остальными, между муками библейского Иосифа и темой бессмертия диких, но подлинных песен? Разве что Иосиф продан в Египет, а в Египте – дикари‐бедуины…
Последние три строфы – как бы отдельное стихотворение, причем последняя строфа явно перекликается со знаменитым стихотворением Державина:
Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы!
1. Мандельштам vs Державин
Но тут не перекличка‐ауканье, а резкий спор, в тоне Мандельштама слышится вызов: нет, не пожрется! Сей спор с Державиным о смысле и результате творчества, о том «что остается», для Мандельштама сквозной, осевой, важнейшая для него тема 88. В 1923 году Мандельштам пишет одно из главных, можно сказать «опорных» своих стихотворений – «Грифельную оду», где подводит итог этому спору. Ему уже 32, это зрелый поэт в сознании своей внутренней правоты и поэтической мощи. Ирина Семенко отмечает в книге «Поэтика позднего Мандельштама», что
Как известно, импульсом для создания «Грифельный оды» послужило восьмистишие Державина, записанное на грифельной доске за несколько дней до смерти, озаглавленное «На тленность».
Тема исчезновения после смерти всего и вся для Державина изначальная, постоянная, главная. У истока своего поэтического пути, вдохновившись стихами Старого Фрица, прусского короля Фридриха Великого, он перевел их прозой:
О Мовтерпий, дражайший Мовтерпий, как мала есть наша жизнь!.. Лишь только ты родился, как уже рок дня того влечет тебя к разрушающей нощи… вижу нить дней моих уже в руках смерти. …Нет на свете ничего надежного, даже и самые наивеличайшие царства суть игралище непостоянства…
В одной из лучших своих од «На смерть князя Мещерского» Державин глаголет:
Едва увидел я сей свет,
Уже зубами Смерть скрежещет,
Как молнией, косою блещет,
И дни мои, как злак, сечет.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Скользим мы бездны на краю,
В которую стремглав свалимся;
Приемлем с жизнью смерть свою;
На то, чтоб умереть, родимся;
Без жалости все Смерть разит:
И звезды ею сокрушатся,
И солнцы ею потушатся,
И всем мирам она грозит.
Тот же мотив в знаменитом «Водопаде»:
О водопад! в твоем жерле
Всё утопает в бездне, в мгле!
Везде эта немилосердная мысль о всевластии смерти, о неизбежности окончательной гибели.
Ходасевич в своей замечательной биографии поэта пишет, что уже в первых стихах «Державин впервые нащупал в себе два свойства, два дара, ему присущих – гиперболизм и грубость». (Мандельштам называл его «мощно неуклюжим» 89, а Пушкин – «не знающим ни русской грамоты, ни духа русского языка» 90). В другом месте биографии Ходасевич называет его «упрямым и прямолинейным».
Нетерпеливый, упрямый и порой грубый, он и со словом обращался так же: гнул его на колено, по выражению Аксакова. Не мудрено, что плоть русского языка в языке державинском нередко надломлена или вывихнута. Но дух дышит мощно и глубоко. Это язык первобытный, творческий. В нем – абсолютная творческая свобода, удел дикарей и гениев…
Отметим два замечания: «удел дикарей» Ходасевича и «его гений думал по‐татарски» Пушкина (учитывая «татарское происхождение» Державина 91, здесь просматривается глубокая вера Пушкина в «кровь»). В «Стихах о русской поэзии» (1932) Мандельштам разовьет эту мысль:
Сядь, Державин, развалися, —
Ты у нас хитрее лиса,
И татарского кумыса
Твой початок не прокис.
Можно сказать, что в Державине было что‐то дикое, как в царе Петре и в самой русской жизни, вздыбленной самодержавной десницей. И восьмистишие его, конечно, великолепно, но мысль проста («умом был прям, а душою прост», пишет Ходасевич), к тому же, заимствована, и это мысль языческая. Ужас перед всевластием смерти – языческий ужас. Феогнид из Мегары писал в 6‐ом веке д.н.э.:
Читать дальше



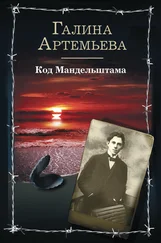



![Наум Вайман - Преображения Мандельштама [litres]](/books/429967/naum-vajman-preobrazheniya-mandelshtama-litres-thumb.webp)