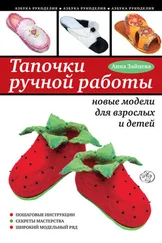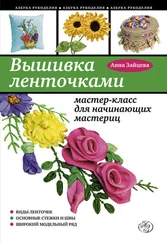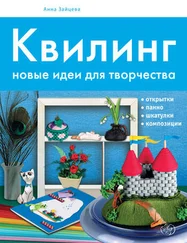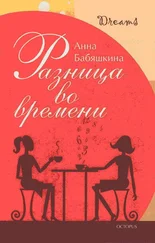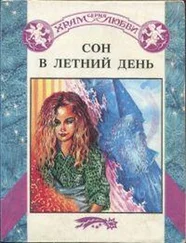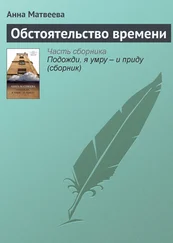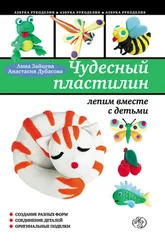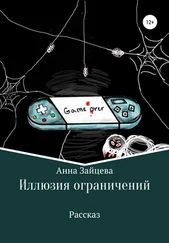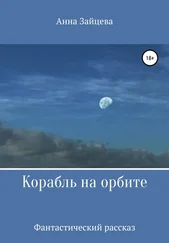Таким образом, уже в этой ранней работе отмечены все основные характеристики «травматического времени»: его обособленность и неподконтрольность, болезненная яркость и живость воспоминаний, не теряющая актуальности со временем; бесконечный цикл повторения в разных формах. Этот цикл прекращается путем разблокирования «застывшего» аффекта и его отреагирования (пусть даже путем простого проговаривания, рассказа) и прокладыванием «путей к обычному сознанию» (что Фрейд в этот период предлагал делать путем легкого гипноза).
В работе «Исследования истерии» также впервые звучит идея сверхдетерминации, то есть множественной причинности/обусловленности какого-либо симптома. Это важная идея, касающаяся психического времени, которая будет развита в дальнейших работах.
В том же году Фрейд впервые употребляет созданный им термин «последействие» (немецкое Nachträglichkeit ; французское après-coup ). Этот неологизм возникает в так называемом «Черновике G», который представляет собой письмо Вильгельму Флиссу и посвящен меланхолии. Фрейд строит такую модель травмы, которую называют двухфазовой; в этой модели нет прямой связи между актуальным симптомом и вытесненным (забытым, подавленным) событием. По-настоящему травмирует не первичное событие само по себе, а события последующие, которые активируют память о первичной травме. Или, как это формулирует Айтен Юран, «Акценты в прошлом расставит будущее; только будущее определит степень значимости прошлого. Патогенное ядро, представляющее собой первичное ядро вытесненного, становится таковым лишь в последействии» [52].
Более того: можно сказать так, что в травме «виновно» воспоминание, которое вызывает к жизни первичный аффект, хранившийся глубоко в бессознательном. (Здесь мы опускаем все остальные факторы, влияющие на способность психики справиться с травматическим событием, концентрируясь только на проблеме психического времени; очевидно, что далеко не всегда первичное событие + последействие приводят к патологическим проявлениям, симптомам истерии или другим реакциям).
Позже Фрейд глобально переработал теорию травмы, обосновав в ней ключевую роль фантазий: чаще всего травмирует не исходная ситуация, а фантазии вокруг нее. И более того, многие пациенты осуществляют тот процесс, который позже был назван ретроспективным фантазированием: приписывают своему детству ложные события, которых никогда не происходило.
Следующий важный этап – 1899—1900, «Толкование сновидений». Здесь уже поднимается вопрос «сновидческого времени», «времени во сне» и его взаимосвязи с временем бодрствующего субъекта. Идея «в бессознательном нет времени» еще не озвучена во всей полноте и конкретике, но витает в воздухе. Фундаментальные положения Фрейда относительно сновидений таковы:
– сновидение содержит в себе явную и скрытую, латентную части
– на сновидение влияют как дневные впечатления повседневной жизни, так и бессознательные желания
– ослабевание цензуры позволяет вытесненному проявиться в сновидении; однако работа цензуры воздействует косвенным образом, искажая и зашифровывая послания бессознательного
– сновидение работает на 2 цели: охранять сон, поддерживая спящее состояние; показать человеку исполнение его бессознательного желания в образной, галлюцинаторной форме
– из-за этой комплексной цели содержание сновидения отличается сложной обусловленностью разных факторов
– в сновидении присутствует регрессия: «Раздражение протекает обратным путем. Вместо моторного конца аппарата оно устремляется к чувствующему и достигает наконец системы восприятия» [47, с.53], или иными словами «представление превращается обратно в чувственный образ, из которого оно когда-то составилось» [там же].
Исходя из вышесказанного, какие выводы можно сделать о времени внутри сновидения? Сон развивается как некая история, имеющая начало, развитие и завершение; цензура сновидения работает на то, чтобы в этом сне было хотя бы подобие сюжета – сюжета внешнего, более-менее логичного и прикрывающего собой латентное содержание.
Сон, с другой стороны, представляет собой «путешествие в прошлое» – к более архаичным (младенческим) способам восприятия действительности. Это не «временн ая», а «топическая» регрессия, то есть возвращение к потерявшим актуальность формам выражения, обратное путешествие из взрослого вербального мира в мир изображений.
Читать дальше
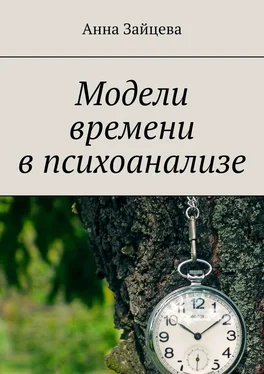
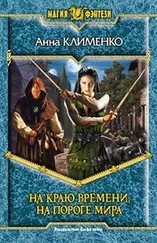
![Анна Ахматова - Бег времени [сборник]](/books/30703/anna-ahmatova-beg-vremeni-sbornik-thumb.webp)