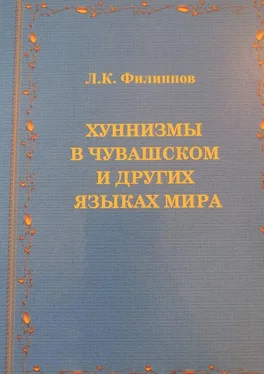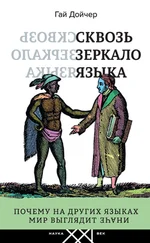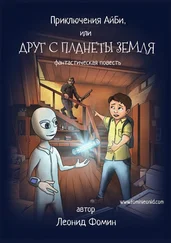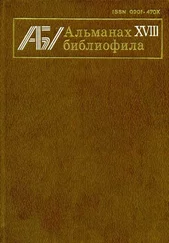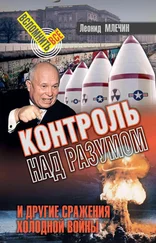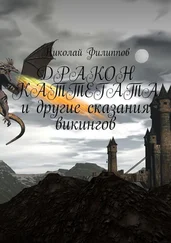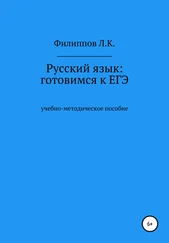В результате системного выявления хуннизмов, гуннизмов в ряде языков мира автор логически обоснованно приходит к суммирующему заключению, что хуннский язык по своему происхождению восходит к дунхускому (пратюркскому) языку, что он не есть древнетюркский язык, что чувашский язык генетически связан с хуннским, представляет собой отдельную ветвь алтайских языков и является надёжным ориентиром в поиске хуннизмов, гуннизмов в других языках мира, подтверждение тому – настоящее исследование.
Нельзя не заметить своеобразие языка монографии. Он отличается от обычного сухого стиля лингвистического текста приближённостью к устному повествованию. Это, скорее, достоинство, чем недостаток, тем более что монография Л. К. Филиппова соединяет в себе важное свойство филологического труда: научность и популярность. Писать просто о сложных вещах – это большое искусство.
Внушителен список использованной литературы – 297 названий.
Разумеется, как и всякий научный труд на сложную и мало разработанную тему, данное исследование не может претендовать на полное и окончательное решение поставленной в нём проблемы. Отдельные сопоставления и объяснения, выдвинутые его автором, представляются маловероятными, главным образом в силу фонетических несоответствий (например, возведение славянского этнонима сéвер к гуннскому савúр – гл. 8 §8.2), а иногда – с точки зрения семантики (например, возведение славянского слова хмель через посредство чувашского хăмла «хмель» к гуннскому * кáмос «хмельной напиток» – гл. 9 §9.8). Остаются неясными и некоторые другие положения. Они нуждаются в специальных исследованиях, которые позволят уточнить, подтвердить или отрицать те выводы, которые носят предварительный характер и которые сделаются аксиомами только тогда, когда лингвистика окончательно объяснит все нуждающиеся в уточнениях, быть может, в новых толкованиях известные науке хуннские, гуннские слова. Впрочем, автор далёк от мысли, что его взгляды решают проблему полностью, окончательно и бесповоротно, ибо знает, что перед тем как гипотеза превратится в общепризнанную концепцию, она должна собрать полный комплект всех возможных доказательств. (В отношении знания о прошлом, к тому же столь отдалённом от нас, ничего нельзя утверждать однозначно).
Необходимым дополнением к книге являются два приложения, в первом из них на повестку дня поставлена задача исследования чувашско-китайских лексических соответствий, во втором —древнейших истоков чувашской государственности.
Настоящая монография – масштабное и глубокое исследование, она – достойный подарок столетию Чувашской автономной области.
А.А.Зарайский,доктор филологических наук, профессор, действительный член Национального общества прикладной лингвистики (МГУ, Москва, РФ)
Настоящее исследование является опытом синтеза сведений по истории, исторической географии и лингвистике, содержащихся в опубликованных книгах автора, посвящённых предыстории чувашского народа и его языка [Филиппов, 2008; Он же: 2009; Он же: 2010; Он же: 2012; Он же: 2014; Он же: 2018]. В его основе лежат общие для указанных работ положения. Поскольку они чрезвычайно важны для адекватного понимания анализируемого на последующих страницах монографии историко-географического и лингвистического материала, кратко изложим их здесь.
* * *
Хунны – один из древнейших восточно-азиатских народов; в китайской истории они известны под названием хунну или сюнну . Первое из них представляет собой старое чтение (произношение) китайских иероглифов, обозначающих чужеземное название, второе – современное [Кюнер, 1961, с. 25]. В данной книге предпочтение отдано фонетическому варианту хунну . В научной литературе на русском языке этноним хунну изменён на хунны , который принято склонять, а прилагательные, образованные от него, употреблять в форме хуннский (-ая, -ое, -ие).
Название хунну , согласно Цзи Юну, появилось в Китае в IV—III вв. до н.э. [Цзи Юн, 1956, с. 95]. Относительно его происхождения и значения нет единства мнений. Так, основоположник русского китаеведения Н. Я. Бичурин (1777—1853; Россия) считает, что оно – «древнее народное имя монголов» [Бичурин, 1953, т. 1, с. 39, прим. 1]. И поясняет: «Китайцы, при голосовом переложении сего слова на свой язык, употребили две буквы: Хун злый, ну невольник. Но монгольское слово Хунну есть собственное имя, и значения китайских букв не имеет» [Там же]. Другие этимологии этнонима хунну см. [Deguignes, 1756—1758, v. 2, p. 13; Rémüsat, 1820, p. 8—9; Neumann, 1847, S. 26; Erdman, 1862, S. 112; Vambery, 1882, S. 43; Tomaschek, 1888; Cahun, 1895, p. 46; Иностранцев, 1926, с. 15—16, 38—39, 90—91; Окладников, 1956, с. 91—92; Кузнецов, 1957, с. 126; Каховский, 1965, с. 126 и др.]. Обзорно они рассмотрены в одной из работ автора данной книги [Филиппов, 2014, с. 19—20].
Читать дальше