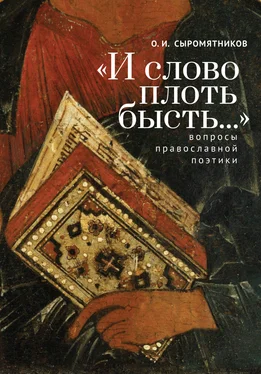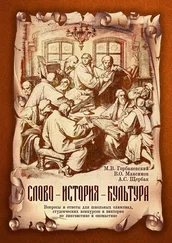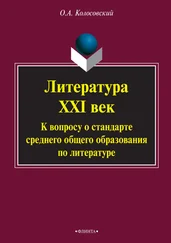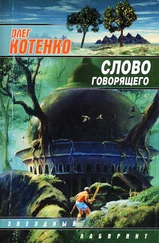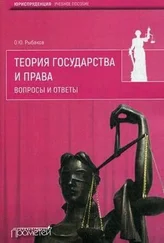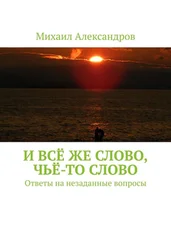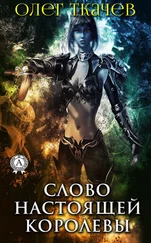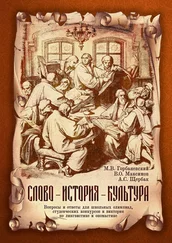Религиозная вера не возникает сама собой. Она дается человеку как дар благодати Святого Духа: «Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот же, производящий всё во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу» (1 Кор. 12, 4–7). Но это не значит, что Бог раздает дары всем поровну или исключительно по Своему произволению. Важнейшее значение имеет духовное состояние человека, его отношение к Богу. Чем более полно и точно человек исполняет Его волю, тем крепче и сильнее его вера. Однако, будучи свободным, человек может отказаться войти в дверь спасения, открытую для него Богом. В этом случае он погребается в своей телесно-душевной ограниченности и обрекает себя на медленное умирание.
Изначально всё в человеке было добро, поскольку он был сотворен по образу всеблагого Бога. О том, что сам акт создания человека был актом добра, говорят слова, подводящие итог творению: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро: день шестой» (Быт. 1, 31). Будучи благим, человек не знал зла и не искал его, потому что не нуждался в нем. Всё, что ему было необходимо для жизни и счастья, давал ему Отец – единственный источник добра в мире. Он наделил человека всеми свойствами, необходимыми для достижения счастья. В их числе была совесть – уникальное свойство, соединяющее человека с Богом и позволяющее понимать (со-ведать) Его волю и безошибочно отличать добро от зла. Однако кроме совести человеку была дана и свобода воли: человек мог поступать так, как считал нужным. Еще в раю Бог предупредил его об опасности нарушения духовного закона, символически обозначенного образом древа познания добра и зла: «И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла, не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» (Быт. 2, 16–17). Форма, в которой Бог сообщил о границах действия этого духовного закона, в наибольшей степени соответствовала уровню развития человека, но могла быть и какой угодно другой. Важно то, что человек был предупрежден: есть закон, обусловливающий его пребывание в раю.
Сегодня мы знаем, почему не следует его нарушать. Если в ситуации морального выбора человек выбирает зло, он сам лишает себя добра – необходимого условия счастливой жизни. Само по себе зло не существует, а возникает только как умаление или ограничение добра волей человека. Добро – всё, что способствует жизни; зло – всё, что ей препятствует. Нарушая какой-либо духовный закон, человек причиняет зло самому себе, и уже затем оно выходит из человека в мир. Об этом говорит Евангелие: «Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство…» (Мк. 7, 21–22).
Первым людям были даны ясные, простые и легко исполняемые заповеди, но в какой-то момент люди решили, что могут быть счастливы сами по себе, без Бога, и даже пожелали стать «как боги» (Быт. 3, 5). Они злоупотребили своей свободой и нарушили богоустановленный закон. Преступление имело тяжкие последствия: разум, чувства и воля человека исказились и ослабли, почти сравнявшись со свойствами животных. Люди стали смертны, утратили способность не стареть, им стало легче грешить, чем жить по Божьему закону. Апостол Павел говорит об этом: «Как одним человеком грех вошел в мир, и грехом – смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили» (Рим. 5, 12).
Духовная сфера личности сохранилась, но человеку стало намного труднее управлять ею, это требовало теперь значительных усилий, «пота лица» (Быт. 3, 19). И чем значительнее предполагался результат, тем бо́льшие усилия необходимо было приложить. Для многих людей это стало непосильно, и они предпочли заботиться о «хлебе насущном», живя лишь телесной и душевной жизнью. Но главное, после утраты людьми непосредственной связи со своим Творцом им требуются значительные усилия, чтобы хоть на краткое мгновение вновь соединиться с Ним и получить благодатную помощь.
Не менее важно было и то, что грехопадение оторвало совесть от ее Источника и она утратила ясное видение добра и зла. С тех пор в каждом последующем поколении и с каждым новым грехом совесть всё больше и больше слабела, пока наконец не рождался человек, полностью подчиненный какой-либо страсти. Служа ей, он рано или поздно начинал преступать сначала Божий, а затем и человеческий закон. Это – путь личной апостасии, о которой Достоевский сказал: «Совесть без Бога есть ужас, она может заблудиться до самого безнравственного» [39] Достоевский Ф. М. Указ. изд. Т. 27. Дневник писателя, 1881. Автобиографическое. Dubia. С. 56.
.
Читать дальше