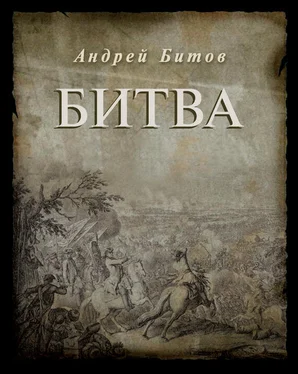Словарь можно читать, можно дышать словарем, но вряд ли современный писатель может им пользоваться. Может, это характерно лишь для нашего поколения, может, это усугублено моими личными свойствами, но мое убеждение, что просвещение писателя (тут как важен эпитет – современного…) есть прежде всего устное просвещение, а не письменное и тем более не книжное. Я и до сих пор читаю книги, шевеля губами, мысленно – вслух (читаю, как слышу, а пишу, как говорю). И до сих пор обучение наше происходит через ухо, устами учителя и лектора, никак не замененное учебником, который мог бы сочинить наиболее умный и просвещенный из учителей и лекторов. Однако именно более простоватые и далековатые коллеги ученых втолковали каждому из нас то, что мы знаем. Остальное зависело от нас самих, от постижения. Писатель прежде всего человек, который ставит все свои слова, постигнув их смысл. Пусть их будет сто, но ни одного приблизительного. Писатель все-таки пишет смыслами, а не словами. (Рассказывают в Ереване люди, требовательности которых можно доверять, что англоязычный У. Сароян, не изучая армянский язык, а постигнув за время посещений исторической родины сотню важных ему слов, выражал по-армянски очень тонкие, точные и глубокие смыслы.) Ста слов, конечно, маловато, но один из самых богатых по языку прозаиков советского времени – Андрей Платонов, безусловно, не богат по словарю; это для него естественно, но это и вполне осознанно. Один из самых трудных в своих смыслах для чтения, Андрей Платонов выражал эти смыслы самыми «бедными» словами, словами, которые поймет каждый, – смыслы, которые лишь может понять каждый, если взойдет на духовное усилие, которое, увы, не каждый на себя берет. Современную литературу надо читать без словаря – следовательно, и писать без словаря. В пушкинское время (внутри самого Пушкина же) отошли Персефоны и Аониды, хотя вовсе не были бессмысленны для просвещенных авторов, сокращали им путь выражения безотказными моделями. Зияющая рана классического образования во мне, скажем, всегда саднит и никогда не зарастет, но вряд ли я бы мог как современный автор воспользоваться им в прозе иначе, как вырастив пусть и древние смыслы, но на своей почве и своем опыте и лишь тогда постигнув единство многих символов от древности до наших дней. Как бы ни был образован писатель, он по призванию неуч, впервые подходящий к жизни и опыту. В результате продирания сквозь попытку выразить он необходимо становится человеком просвещенным, но вряд ли до конца образованным. Я наблюдал примеры весьма образованных людей, бравшихся за перо; как писатели они, если у них было это, неизбежно низвергались внутри себя на уровень самоучки. Писатель, по моему разумению, создатель текста, прежде всего полного единства употребленных им слов. Поэтому подспорье записных книжек и словарей кажется мне хотя и полезным человеку-писателю, но вряд ли практически применимым, потому что в текст как в единство ничего не вставишь, и в отдельности найденное удачное выражение, как правило, бывает вытеснено течением естественной речи, сначала «не вспомнено», а потом «не вставляемо». Жалеть об этом не следует.
Текст всегда располагается на плоскости, но он объемен, в нем с бесконечной частотой и точностью меняется параметр, на бумаге не отраженный, – иерархия слов. В этом третьем измерении каждое слово отрывается от листа, помещается от него на различном расстоянии. То приближаясь, то отлетая вдаль, то прилипая к бумаге, оно не просто что-то значит (информация…) – оно живет в контексте этих «расстояний».
Иерархия, порядок слов – не алфавитны. Если бы возможно было составить словарь по иерархии, мы бы писали такими иероглифами, перед которыми померкла бы сложность китайского письма.
Язык, живущий сегодня, в этот час, в этот миг, – это живой, пульсирующий объем, тело, как бы один единый текст, никому в полноте недоступный, непосильный, текст, который завтра изменится, которого не станет. Текст этот – слишком огромен для индивидуального сознания, но он вполне ограничен, не безмерен. Его – столько и такого. Его не успеешь прочесть – его можно лишь уловить как общий гул, а то и общую музыку. В этом смысле живой язык можно уподобить особо сложному музыкальному инструменту, вместившему в себя самый большой оркестр, – некому немыслимому органу, где каждую секунду все слова находятся в живой и трепетной взаимосвязи, соотношении, соподчинении. И, надо полагать, никакой инструмент сам не звучит – он звучит в нашем исполнении. И самый фальшивый или неуместный звук извлечен не в отдельности и частности, а все из того же, каждому доступного, но одного на всех величайшего инструмента. Текст пишущего – часть этой общенациональной речи, крошечное подобие целого, и чем точнее текст, тем точнее он воспроизводит объемную модель современного языка (на другом не сыграешь, другого – не дано), на миллидолю не ошибаясь в «расстоянии» до каждого слова. Именно тогда каждое слово текста звучит в контексте, то есть несет не только так называемую информацию, но и уподобляется самой жизни, ее состоянию. И бесхитростная мелодия, которую предлагает нам современный автор, подразумевает в нем абсолютный слух. Играя свою небольшую музыку, мы играем ее и на всем органе…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу