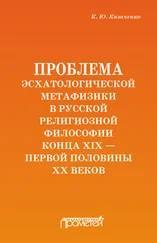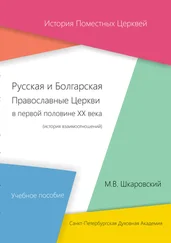Оставляя в стороне событийную канву Евангелий, и Л. Н. Андреев, и Ю. Л. Слёзкин (как равно и другие писатели начала ХХ века, обратившиеся к Священному Писанию исходя из собственного духовного опыта и мировоззрения, а также под влиянием индивидуально-социальной прагматики и конъюнктуры), испытывали потребность «дописать, “договорить” библейскую историю <���…> оригинально пересказать известный текст» [89, 34]. Но если в рассказе «Елеазар» (1906) и повести «Иуда Искариот» (1907) Л. Н. Андреев, предлагая во многом парадоксальную трактовку новозаветных событий, пусть и не совпадающих с их канонической, богословско-догматической оценкой, на сюжетно-фактическом уровне все же следует в фарватере Евангелий, то в рассказе «Бен-Товит» (1905) писатель воссоздает атмосферу «страшного дня, когда совершилась мировая несправедливость и на Голгофе среди разбойников был распят Иисус Христос» [9, I, 555], без какого бы то ни было отношения к Библии. Ни фабула рассказа, ни его заглавный герой не связаны ни с одним из Евангелий: автор сообщает о некоем иерусалимском торговце, типичном обывателе, оказавшемся современником и невольным свидетелем крестного подвига Спасителя, о котором ему, занятому своими житейскими проблемами и страдающему от нестерпимой зубной боли, мешающей вообще о чем бы то ни было думать («весь рот и голова полны были ужасным ощущением боли, как будто Бен-Товита заставили жевать тысячу раскаленных до красна острых гвоздей» [9, I, 555]), решительно не было никакого дела. Сосредоточивая внимание на «мучениях» Бен-Товита, являющихся формально смысловым центром рассказа, писатель выстраивает повествование таким образом, что евангельский фон приобретает самодовлеющее значение, а значит – перестает быть просто фоном и становится метасюжетом всего произведения.
Частная жизнь маленького, несчастно-ничтожного человека, эгоистически сосредоточенного на своей зубной боли, страшнее которой, как ему кажется, в мире ничего нет (отсюда экзальтированные капризы Бен-Товита и обидные упреки жене в равнодушии к его страданиям: «он, еле разжимая рот, наговорил ей много неприятного и жаловался, что его оставили одного, как шакала, выть и корчиться от мучений» [9, I, 555]), противопоставлена Л. Н. Андреевым невыразимой муке Спасителя, смиренного несущего на Голгофу свой крест за все человечество. Поистине Сын Человеческий, искупающий собственной кровью грехи мира – всех бесчисленных человеческих сыновей, подобных андреевскому персонажу (имя которого не случайно указывает на его «сыновнюю» сущность: «Бен» в переводе с еврейского означает «сын» [31, 88]), оказывается не понят и не принят теми, ради которых пожертвовал собой, даровав им бессмертие. Христос буквально и метафорически прошел свой скорбный путь мимо Бен-Товита, который так и не внял всем ниспосланным свыше знакам и свидетельствам, призывавшим торговца обратить свой духовный взор на Спасителя: «Несколько раз к нему прибегали дети и что-то рассказывали торопливыми голосами о Иисусе Назорее. Бен-Товит останавливался, минуту слушал их, сморщив лицо, но потом сердито топал ногой и прогонял» [9, I, 556]; даже жена торговца, наслышанная о чудесах Иисуса, пыталась убедить его хотя бы мысленно обратиться к Христу («Рассказывают, что Он исцелял слепых»), но получила в ответ презрительно-ироническое недоумение Бен-Товита: «Ну конечно! Пусть бы Он исцелил вот мою зубную боль» [9, I, 557].
Скептик и рационалист, укорененный в меркантильно-материальной почве, торговец не сумел постичь великий смысл совершившихся в Иерусалиме событий, вселенский масштаб которых не доступен ограниченному сознанию обывателя, зато явлен персонифицированной природе, космические картины которой, введенные в художественную ткань рассказа в качестве контрастирующей параллели к миру слабых и малодушных людей, не замечающих голгофской катастрофы, приобретают символический характер. «Солнце, которому суждено было видеть Голгофу с тремя крестами и померкнуть от ужаса и горя» [9, I, 555], «солнце, осужденное светить миру в этот страшный день» и оставившее после заката «кровавый след, багрово-красную полосу» [9, I, 557], становится скорбным соучастником божественной мистерии наряду с наступившей Ночью, опустевшей Землей и бездонным Небом: «из глубоких ущелий, с далеких обожженных равнин поднималась черная ночь. Как будто хотела она сокрыть от взоров неба великое злодеяние земли» [9, I, 558].
Природно-пространственные образы, приобретающие в эстетической системе Л. Н. Андреева «все большее символическое значение» [163, 113], организуют особый «библейский хронотоп» русской литературы ХХ века, иносказательно-метафизическая сущность которого доминировала не только у писателей-модернистов, но и последовательных реалистов, как И. А. Бунин. Созерцая Голгофу в час заката («Солнце опускается…»), лирико-автобиографический герой бунинского рассказа «Иудея» (1908), вопрошает: «Боже, неужели это правда, что вот именно здесь был распят Иисус?» [56, II, 310], и в его воображении явственно представляются картины крестных мук Иисуса Христа, свидетелями которых были все те же палящее солнце, «небо глубокое», «кое-где покрытая скудной зеленью земля» [56, II, 309] и «печальная тьма быстро набегающей ночи» [56, II, 310].
Читать дальше
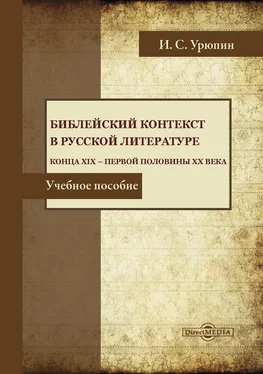


![Аркадий Бухов - Шерлок Холмс в России [Антология русской шерлокианы первой половины XX века. Том 1]](/books/418887/arkadij-buhov-sherlok-holms-v-rossii-antologiya-rus-thumb.webp)