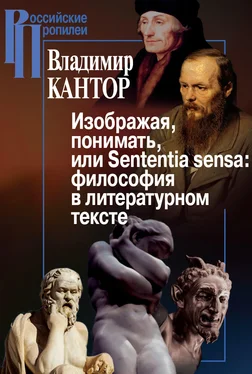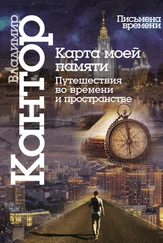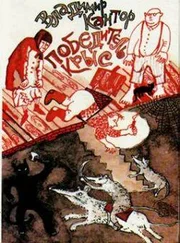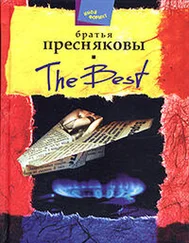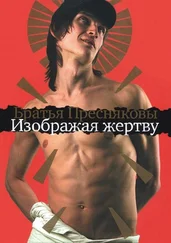Если говорить, что он вносит раскол в русское общество, то позволительно спросить, в какое общество? То, где насилуют молоденьких девочек, позволяют умирать с голоду целым семействам, где богатеи (или сильные мира сего) абсолютно безнаказанно переезжают на бешеной карете бедного чиновника, вдавливая ребра в его тело. Где от ужаса жизни топятся женщины в питерских канавах, где каторжники считают себя верующими в Бога, а простой народ веселится, забивая топором, оглоблей, ломом бедную клячу, где вонь, грязь, гулящие женщины на каждом шагу, где старая ростовщица обирает всех, попадающих в ее сети, где кроме матери и сестры Раскольникова, его друга Разумихина и следователя с иезуитскими наклонностями нельзя увидеть ни одного положительного персонажа. Как можно расколоть такое общество, оно уже расколото.
Более того, Раскольникову писатель дает и свои переживания. Например, когда Раскольников с топором идет к старухе, он идет будто на казнь: «“Так, верно, те, которых ведут на казнь, прилепливаются мыслями ко всем предметам, которые им встречаются на дороге”, – мелькнуло у него в голове, но только мелькнуло как молния; он сам поскорей погасил эту мысль». Раскольникову чуть больше двадцати, на казнь его ни разу не вели. Вели Достоевского. Когда его поцеловала десятилетняя Поленька за помощь несчастному семейству Мармеладовых, он возрождается к жизни, выходит из мрака, в который он вошел после убийства: «Он сходил тихо, не торопясь, весь в лихорадке и, не сознавая того, полный одного, нового, необъятного ощущения вдруг прихлынувшей полной и могучей жизни. Это ощущение могло походить на ощущение приговоренного к смертной казни, которому вдруг и неожиданно объявляют прощение. На половине лестницы нагнал его возвращавшийся домой священник; Раскольников молча пропустил его вперед, разменявшись с ним безмолвным поклоном». Это ему близкий герой. Поэтому однозначности в его оценке быть не может, особенно если мы вспомним формулу Достоевского, что его Осанна сквозь большое горнило сомнений прошла. На каторге Раскольников ненавидим ее обитателями. Как и Достоевский был ненавидим.
Доброхотов так комментирует Данте: «Ад – это торжество справедливости. Но божественная и человеческая справедливость не одно и то же. Ветхий и Новый завет говорят об исключительном праве Бога вершить возмездие, и, когда Данте берется судить грешников, его нередко охватывает жалость» [104] Доброхотов А.Л. Данте Алигьери. М.: Мысль, 1990. С. 99.
. Жалость охватывает и Раскольникова, но не ему вершить справедливый суд. По мнению большинства исследователей, сочинив свою теорию, он предлагает некие правила суда и возмездия, или, точнее, карательную установку. Первым о теории, как основе преступления Раскольникова, написал Н. Страхов. Далее эту тему подхватил Бердяев (под влиянием которого вырастала советская интеллигенция последние 30 или 40 лет ХХ в.), став одним из родоначальников ложного понимания романа: «Для Раскольникова уже не существует гуманности, его отношение к ближнему жестоко и беспощадно. Человек, живое, страдающее конкретное человеческое существо, должен быть принесен в жертву сверхчеловеческой “идее”» [105] Бердяев Н.А. Миросозерцание Достоевского // Бердяев Н.А. О русских классиках. М.: Высшая школа, 1993. С. 154.
.
В последние несколько десятилетий эту тему поднял Юрий Карякин, при этом принимая как факт вину теории в убийстве. Карякин называет Раскольникова идеологом, который в принципе не должен был сам марать руки в убийстве, и пишет, что его задача – создать теорию «все позволено» и «провоцировать других реализовывать эти идеи» [106] Карякин Ю. Самообман Раскольникова // Карякин Ю . Достоевский и канун XXI века. М.: Сов. писатель, 1989. С. 196.
. Отсылка к большевизму, Марксу и Ленину очевидна. Отнюдь не являясь сторонником Ленина, хочу напомнить вполне честные слова Маяковского, что революционные массы «без чтения разбирались в том, в каком идти, в каком сражаться стане».
Интересно, однако, наблюдение Н.С. Трубецкого по поводу того, как появляется в романе идея Раскольникова, его, так сказать, теория. Говоря, что Раскольников – очевидный теоретик, «привыкший думать силлогизмами» [107] Трубецкой Н.С. О двух романах Достоевского // Трубецкой Н.С. История. Культура. Язык / Сост. В.М. Живов – М.: Прогресс, 1995. С. 707.
, будучи серьезным исследователем, он задает себе вопрос, а когда, собственно, мы узнаем о теории Раскольникова? Ведь мы видим первую половину романа Раскольникова, не рассуждающего, а двигающегося от одного жизненного потрясения к другому. Всю эту первую половину романа, когда происходит хождение Раскольникова по адскому дну России, мы ничего не знаем о его теории. Мы видим ад и инстинктивные движения благородного человека, пытающегося как-то противостоять злодеяниям мира сего. Трубецкой написал, и это его наблюдение я беру в союзники: «Мировоззрение Раскольникова раскрывается читателю только в пятой главе третьей части, то есть приблизительно в середине книги, когда личность Раскольникова в главных своих чертах уже известна ему давно» [108] Там же. С. 708.
. Но с поправкой: мировоззрение человека, по мысли Хайдеггера, поверяется его бытием. И в читательском восприятии героя теории вроде и не нужны, они нужны идеологам. Теория усложнила и запутала – не читателя, нет. Читатель к моменту обнародования теории уже составил себе представление о герое, и совсем не как о теоретике. Теория нужна следователю, чтобы осудить Раскольникова не как убийцу, борющегося так глупо со злом мира, а как интеллигента-теоретика.
Читать дальше