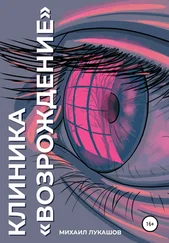Марина Цветаева, как известно, соотносила себя с Мариной Мнишек – но и с Лилит, Евой, Агарью и пр.; Черубина де Габриак (Е. Дмитриева) – в числе прочего, с херувимом, охраняющим рай от Евы, и одновременно с самой Евой; София Парнок – с библейской либо гностической Софией, а кроме того, с Сафо, и т. д.: примеры легко умножить.
Ср. в данной связи любопытный мотив эротического соперничества (а не самоидентификации) монахини с Девой Марией в стихотворении А. Герцык «Я хочу остаться к Тебе поближе…»: «Твой любимый цвет – голубой и белый, / Твоя Мать, я знаю, его носила. / Видишь – я такой же хитон надела <���…> Ты любил Марию, но часть благая / Ведь и мне досталась в моем смиреньи. / Став рабой Твоей, стала я царицей, / Телом дева я и душой свободна. / Кипарисный дух от одежд струится. / Ты скажи – такой я Тебе угодна?» ( Герцык А . Стихи и проза: В 2 т. Т. 2. М.: Моск. ист. – лит. о-во «Возвращение», 1993. С. 72).
Впрочем, и сам богородичный образ в этой культуре легко расплывался в софиологической или теософской символике Weiblichkeit: «И будут пути иные, / Иной любви пора: / Сольвейг, Тереза, Мария, / Невеста-Мать-Сестра!» (З. Гиппиус). По поводу «вечной женственности» и Mater Gloriosa в ее гетеанской интерпретации см. Mason E. C. Goethe’s Faust. Its Genesis and Purport. Berkley; Los Angeles, 1967. P. 243, 358.
Некоторое отклонение, правда, сюда могут вносить причуды гендерной самоаттестации. Скажем, героиня стихотворения М. Цветаевой «Бог! – Я живу! – Бог! – Значит, ты не умер…» эпатажно объявляет себя не матерью Слова, а его сыновним воплощением – божьим «герольдом»: «Бог! – Я любовью не девической, – / Сыновне я тебя люблю». Но там же сохраняется тождество героини, андрогинной «Царь-Девицы» с Пресвятой Девой: «Смотри: кустом неопалимым / Горит походный мой шатер. / Не поменяюсь с серафимом. / Я твой Господень волонтер». («Купина неопалимая» считалась «предызображением» Марии; в литургике провозглашалось и ее превосходство над серафимами: «чистейшая серафим».)
Догмат о триипостасности божества – «коренной или основной. Утверждение его служит основанием всего христианства и христианского вероучения». Согласно символу св. Афанасия, «каков Отец, таков и Сын, таков и Святый Дух <���…> Целы три ипостаси, соприсущи себе и равны» (Троица Пресвятая // Полный православный богословский энциклопедический словарь: В 2 т. [Репринт. изд.] М.: Возрождение, 1992. Т. 2. С. 2180, 2183).
Ср.: «В мифологическом восприятии непорочного зачатия „творец“ неплодной (или непорочной) мыслится первоначально как ее отец; отсюда тесная связь между мотивами партеногенезиса и кровосмешения. Небесный отец Христа есть в то же время отец родившей его Марии; только на почве низведения Божьей Матери на степень смертной девы выражение „отец“ или „творец“ понимается в смысле творца (или отца) всего живущего. В египетской мифологии, где отчетливей проглядывают первоначальные воззрения, зачатие небесной богини происходит от связи ее с отцом (солнечным богом), который затем вновь рожден ею в результате кровосмесительного брака» ( Франк-Каменецкий И. Г. Пророки и чудотворцы // Франк-Каменецкий И. Г. Колесница Иеговы: Труды по библейской мифологии. М.: Лабиринт, 2004. С. 59).
Герцык А. Стихи и проза: В 2 т. М., 1993. Т. 2. С. 80.
Цит. по: Алексеев М. П. Заметки о «Гавриилиаде» // Алексеев М. П. Пушкин: Сравнительно-исторические исследования. Л.: Наука, 1984. С. 303.
Касаясь соответствующих мотивов «Гавриилиады», М. П. Алексеев подчеркивает: «В изложении обстоятельств Благовещения не только учительная и проповедническая литература, гимны, иконопись и легенда, но даже и литургия пользуются не каноническими евангелиями Матфея (1: 18–25) и Луки (1: 26–45), где рассказ об этом событии изложен действительно недостаточно полно, но именно евангелиями апокрифическими. С не меньшей степенью вероятия можно было бы сюжетные мотивы „Гавриилиады“ искать, например, в текстах благовещенской церковной службы, насквозь пропитанной апокрифическим элементом <���…> Так, в стихире на „Слава и ныне“, поющейся накануне Благовещения, есть, между прочим, слова, которые не имеют ничего общего с каноническим евангельским текстом: „радуйся, неневестная мати, и неискусобрачная, не удивляйся страшному моему зраку, не ужасайся, архангел бо есмь. Змий прельсти Еву иногда, ныне же благовествую тебе радость“. Здесь же последовательно развивается мотив страха Марии, ее боязнь обмана, ее ссылка на обольщенную Еву: „Странно есть слово твое и воззрение“ <���…> Все эти подробности мы найдем также в учительной литературе и христианской иконографии», включая итальянскую живопись: у Фра-Анджелико, Гирландайо и Франчини, прибавляет автор, «Гавриил представлен в демоническом образе искусителя» ( Алексеев М. П. Заметки о «Гавриилиаде» // Алексеев М. П. Указ. соч. С. 331–332). Знаменательно, что в восточнославянской народной традиции Благовещение и следующий за ним день арх. Гавриила (26 марта) трактуются как крайне «опасное, неблагоприятное» время» ( Агапкина Т. М. Мифопоэтические основы славянского народного календаря. Весенне-летний цикл. М.: Индрик, 2002. С. 42–43, 64–65, 394).
Читать дальше
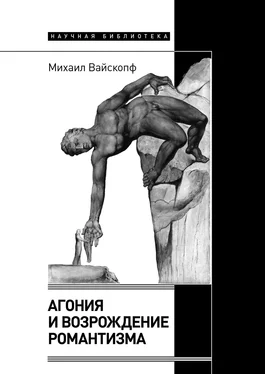



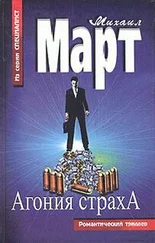

![Михаил Вайскопф - Писатель Сталин. Язык, приемы, сюжеты [3-е изд.]](/books/430618/mihail-vajskopf-pisatel-stalin-yazyk-priemy-syuzhety-3-e-izd-thumb.webp)