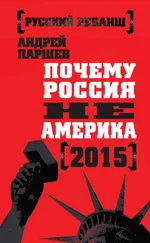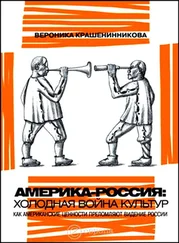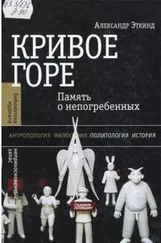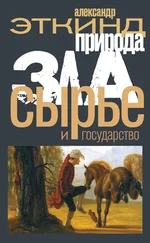, окруженным великими городами Калифорнии и Сибири: возможно, и стал бы, если бы революция на одном из его берегов имела иной исход. Такие сравнения часто занимали европейских наблюдателей, которые приходили, однако, к полярно различным выводам. Алексис де Токвиль представил демократическую Америку и царскую Россию как симметричные, непреодолимо различные реальности, между которыми должна сделать свой выбор Европа: «В Америке в основе всякой деятельности лежит свобода, в России – рабство. У них разные истоки и разные пути, но очень возможно, что Провидение втайне уготовило каждой из них стать хозяйкой половины мира»
[3] Токвиль А. де. Демократия в Америке / Пер. В. П. Олейника и др. М.: Прогресс, 1992. С. 296.
. Наоборот, Мартин Хайдеггер видел в обеих странах проявления одних и тех же начал: «Европа зажата в больших клещах, стиснутая Россией с одной стороны и Америкой с другой стороны», и вообще «большевизм – это всего лишь вариант американизма»
[4] Heidegger М. An Introduction to Metaphysics. New York: Anchor Books, 1961. P. 30.
. Следуя этой логике, выходец из России и учитель новых французских философов Александр Кожев тоже считал, что «Соединенные Штаты уже достигли финальной стадии Марксова коммунизма»
[5] Kojève А. Introduction to the Reading of Hegel. New York: Basic Books, 1969. P. 160.
. Оптимистичный вариант той же хайдеггеровской метафоры уподобляет европейскую цивилизацию птице с двумя крыльями, Америкой и Россией; работая по отдельности или вместе, они поддерживают полет общего тела.
В 1920‐х Россия переделывала себя в подражание Америке; вернувшись из Москвы в 1928 году, американский писатель Теодор Драйзер рассказывал, что «ни одна страна никогда не была в таком восторге от другой, как сегодняшняя Россия – от Соединенных Штатов» [6] Dreiser T. Dreiser Looks at Russia. New York: Liveright, 1928. P. 53.
. В 1930‐х Америка столь же поверхностно подражала России; еще только следуя через океан в 1935‐м, американский литератор Эдмунд Уилсон уже знал: «Советский Союз изо всех европейских стран имеет с нами больше всего общего» – больше, чем Англия [7] Wilson E. Travels in Two Democracies. New York: Harcourt, 1936. P. 161.
. В 1940‐х две страны сражались вместе, несмотря на глубочайшие свои различия; в 1944 году гарвардский профессор Питирим Сорокин писал о «конгениальности» Америки и России, или «существенном сходстве их психологических, культурных и социальных ценностей» [8] Sorokin P. A. Russia and the United States. New York: Dutton, 1944. P. 26.
.
Конгениальность остается в области воображаемого, подобно крыльям Европы или мосту (туннелю) через Берингов пролив, который, впрочем, наверняка будет построен. Нуждаясь в Другом как образце или утешении, воображение интеллектуалов переносилось через океаны легче их тел. Американец Эдгар По в своих воспоминаниях выдумал свое путешествие в Петербург в 1820‐х (на деле туда путешествовал его брат) [9] Grossman J. D. Edgar Allan Poe in Russia: A Study in Legend and Literary Influence. Würzburg: Jal-Verlag, 1973; Лавров А. В. Эдгар По в Петербурге: Контуры легенды // Символисты и другие. М.: Новое литературное обозрение, 2015.
; его русский современник Федор Толстой по прозвищу «Американец» выдумал свое путешествие в Америку. Но реален и весом вклад в американскую цивилизацию множества выходцев из России – от русских казаков, осваивавших Аляску и Калифорнию, до русских евреев, создавших интеллектуальный Нью-Йорк и артистический Голливуд. Менее заметное, но важное влияние оказали американские образцы на русских писателей от Радищева до Пелевина; в нескольких самых известных произведениях русской литературы герои уезжают в Америку или возвращаются оттуда. От Чернышевского до Набокова мы проследим более утопическую, но в рамках литературы вполне осуществленную мечту о слиянии двух стран и культур. В течение двух столетий многие проекты русских реформ, среди них самые провальные и самые успешные, находили свои образцы в Америке. Менее известны симметричные попытки левых американцев представить сталинскую Россию в качестве модели для рузвельтовской Америки. За всем этим стоит большой, многовековой спор о Просвещении и свободе: по разные стороны океанов и на основе разных традиций люди склонны возвращаться к близким идеям. Читая у философов Франкфуртской школы, что «Просвещение тоталитарно» [10] Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика Просвещения. М.: Медиум, 1997. C. 20.
, вспомним пушкинское:
Судьба людей повсюду та же:
Где благо, там уже на страже
Иль просвещенье, иль тиран [11] Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 16 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1947. Т. 3, кн. 1. С. 333.
.
Читать дальше