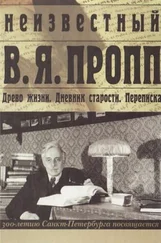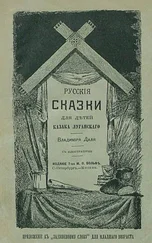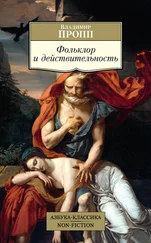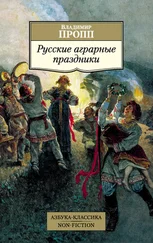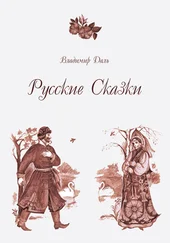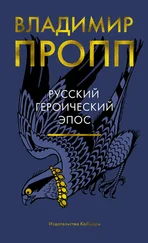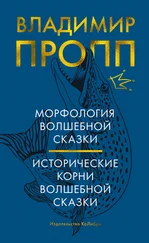Белорусский вариант, пожалуй, один из наиболее сильных. Грешник спасается потому, что убивает другого, еще более великого грешника. Этот второй грешник – всегда барин-помещик, купец, кулак, мироед, надсмотрщик и т. д. В украинских вариантах это управляющий именьем, который палкой ударяет по могилам, чтобы даже умерших крепостных согнать на барщину. Есть и другие случаи, но данная форма преобладает.
Исследование Н. П. Андреева носит чисто формальный характер. Оно не касается идейного содержания этой сказки-легенды. Мысль ее довольно ясна. Убить крепостника – это не только не грех, а заслуга, за которую прощаются какие угодно, самые страшные грехи. Эта мысль пробивается сквозь множество исконно крестьянских традиционных представлений о грехе, покаянии, спасении души на том свете. Этот сюжет не имеет мирового распространения. Он порожден русской жизнью с ее страшными формами крепостничества, с религиозными представлениями крестьянина и ростом возмущения и протеста, которые противоречат религиозным представлениям и, по существу, отменяют их, чего крестьянин тех времен, конечно, еще не осознавал.
<���Сюжет этот был использован Некрасовым (цитировать часть II, гл. 2). По Аарне – сказка. Тип 756 С.>
Эту легенду (в соединении с другой – о божьем крестнике) использовал также Л. Н. Толстой. Здесь божий крестник виновен в смерти человека и кается, поливая головешки. Мимо него трижды проезжает более великий грешник – страшный разбойник, который поет веселые песни, и песни эти тем веселее, чем больше людей он убил. Но божий крестник не убивает его, как в народной легенде и у Некрасова, а поучает и наставляет на путь истины: он уговаривает его не губить себя, а переменить свою жизнь. Этот второй грешник кается и становится праведником. Так Толстой по-своему использует народный сюжет для проповеди своего учения о непротивлении злу насилием, чего в народной трактовке совсем нет.
<���Прочесть: Пропп. Легенда. РНТП. Том. II, 1955 [29] См.: Пропп В. Я. Легенда.// Русское народное поэтическое творчество, т. II, кн. 1; Очерки по истории русского народного поэтического творчества середины XVIII – первой половины XIX века. М. – Л., 1954, с. 378–386.
.>
По установленному выше признаку к сказке не может быть причислен еще один жанр, часто с ней связываемый, жанр, который правильнее всего было бы назвать преданием или сказанием. Сюда мы отнесли бы рассказы, которые выдаются за историческую истину, а иногда и действительно ее отражают или содержат. Если легенда родственна духовным стихам, то предание в какой-то степени родственно историческим песням.
Сказания – это рассказы, относящиеся к историческим местам или историческим личностям и событиям. Первые связаны с каким-нибудь городом, деревней, урочищем, озером, курганом и т. д. Одно из самых ярких, художественных и типичных – сказание о потонувшем городе Китеже. Вторые связаны с историческими именами: Грозного, Петра, Разина, Пугачева, Суворова и т. д. Резкой грани между первыми и вторыми не проводится. Так, есть предания, связанные с местами и лицами одновременно, повествующие об исторических событиях (о войнах с поляками, шведами, французами и др.). Однако в отнесении фольклорного материала к сказаниям все же надо быть очень осторожным. Выделение данного жанра произведено по признаку наличия в нем известной категории действующих лиц или по историческим названиям или событиям. Однако этот признак не всегда является решающим. Решающим является поэтика каждого жанра, а поэтика данного жанра изучена еще менее, чем поэтика других жанров. Так, наличие в рассказе имени Грозного еще не дает нам права принимать этот рассказ за действительно историческое предание. Поэтику сказки мы знаем лучше и отнесем подобные тексты к сказкам, несмотря на наличие в них исторического имени. Очевидно, многие из таких преданий или сказаний при ближайшем изучении смогут быть отнесены и к анекдотам. Тем не менее выделение такого жанра необходимо с оговоркой, что теоретическое изучение его еще предстоит. Одна из самых ранних попыток теоретического определения данного жанра предпринята братьями Гримм в их предисловии к Deutsche Sagen . Соответствующий раздел они озаглавили Geschichtliche Sagen – «Исторические саги».
Из сказанного вытекает, что «исторических сказок» в том смысле, в каком можно говорить об исторических песнях или исторических преданиях, быть не может. Правда, этот термин принят Э. В. Померанцевой в учебнике по русскому фольклору под ред. П. Г. Богатырева, но впоследствии она от этого термина и этого понятия отказалась.
Читать дальше
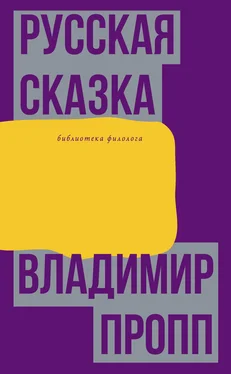
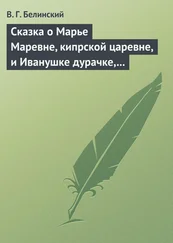
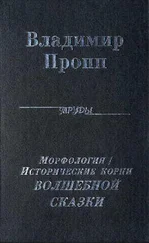

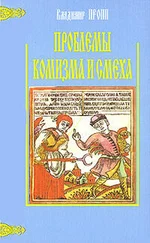
![Владимир Пропп - Морфология волшебной сказки. Исторические корни волшебной сказки [litres]](/books/389664/vladimir-propp-morfologiya-volshebnoj-skazki-istori-thumb.webp)