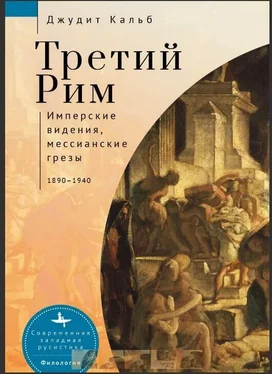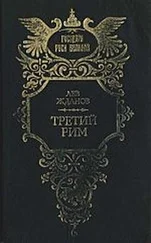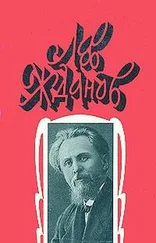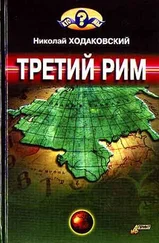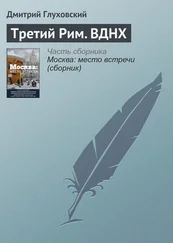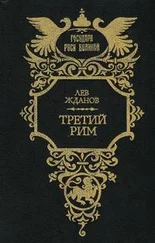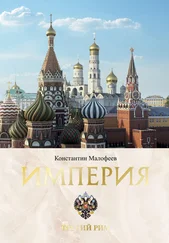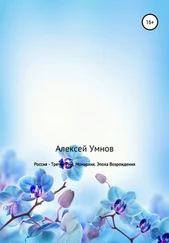1 ...6 7 8 10 11 12 ...28 Русско-римские связи также выполнили свою функцию в менее приятном для императрицы и ее преемников ключе, когда Александр Радищев нелестным образом сравнил Россию с «более свободной» Римской республикой [Baehr 1978: 13]. В начале XIX века восхищение Римской республикой стало широко распространено среди приверженцев реформирования русского самодержавия [Baehr 1991: 161–162]. Декабристы, восставшие против существующего режима в 1825 году, вдохновлялись древними авторами, такими как Плутарх, Ливий и Цицерон, и в сибирской ссылке продолжали заявлять об их значимости. Наиболее важным для декабристов был Тацит, автор исторических трудов о Риме I века [Кнабе 2000: 132–133]. Тацит оказал серьезное влияние и на Александра Сергеевича Пушкина. Тот читал труды римского историка, работая над драмой «Борис Годунов» в 1825 году. Как отмечает Г. С. Кнабе, Пушкин заимствовал мифологические имена для своих литературных текстов из эллинской Античности, но, когда он писал о культуре или истории Древнего мира или отмечал их связь с Россией, он имел обыкновение опираться на римский материал [33] О том, как Пушкин использует классический материал в своих произведениях, см. [Кнабе 2004: 145–153].
.
В то же самое время русские знакомились с объектом своих сравнений. Советник Петра I Петр Андреевич Толстой, совершивший путешествие по Италии в последние годы XVII века [34] См. [Толстой 1992].
, стоял особняком среди современников, но уже в первой половине XIX века многие крупные русские писатели и художники посещали Вечный город и даже жили там продолжительное время – например, Николай Васильевич Гоголь во время создания первого тома «Мертвых душ» (1842) [35] Интересное толкование пребывания Гоголя в Риме и разбор его текстовой мифологизации Вечного города см. [Griffiths, Rabinowitz 1991], в особенности главу 2 «Гоголь в Риме». О рассказе Гоголя «Рим», который свидетельствует о его увлечении красотами Рима, пишет [Schonle 2000] и [Kelly 2003].
. Итальянские картины русских художников Карла и Александра Брюллова, Александра Иванова, Сильвестра Щедрина и других свидетельствуют о романтическом феномене «тоски по Италии», распространенном среди образованной прослойки русского населения в первой половине XIX века. «Последний день Помпеи» (1830–1833; рис. 3) Карла Брюллова и «Явление Христа народу» Иванова (1837–1857), ключевые работы русского искусства XIX века, создавались в Риме [Hamilton 1983: 7] [36] В письме 1839 года к своему отцу Иванов пишет: «Вы, утешая меня, говорите, что это не последний труд мой, а я скажу, что это последний, потому что с ним я явлюсь в Петербург, где дюжинные иконостасы и портреты превратят меня в купца. Ах, только в Риме и поработать!» [Иванов 1880: 120]. Для поколения романтиков Рим был средоточием всего самого привлекательного, что имелось в Италии; княжна Волконская пишет в письме русскому другу П. А. Вяземскому: «Приезжай в Италию… приезжай коллекционировать мрамор, лаву, воспоминания, поэзию и в особенности размышлять под этим безоблачным небом» [Kaucisvili 1966:130]. Выражаю благодарность Кристоферу Эли за то, что предоставил мне эту книгу.
.

Рис. 3. Карл Брюллов. Последний день Помпеи, 1830-1833
Те русские, кто предпочитал оставаться дома, могли наслаждаться многочисленными переводами на русский латинских текстов, особенно стремительно появлявшимися во второй половине XIX века, когда Афанасий Афанасьевич Фет стал главным переводчиком латинских поэтов, таких как Вергилий, Овидий и Ювенал [Гаспаров 1995: 10–11] [37] Тогда как эпос Гомера переводили на русский язык еще в середине XVIII века, а затем вновь в первой части XIX века [Фролов 1989:102–103], греческие трагедии Эсхила, Эврипида и Софокла были переведены только в символистский период такими авторами, как Вячеслав Иванов, Иннокентий Анненский, Дмитрий Мережковский и Фаддей Зелинский.
. Тем временем стремление русских ассимилировать классическое наследие отразилось и в сфере образования: XIX век стал эрой классических гимназий в России, хотя требования к студентам сильно разнились в зависимости от преобладающего курса [38] Исследованию классического образования в России в девятнадцатом веке посвящена статья А. А. Носова «К истории классического образования в России (1860 – начало 1900-х годов)» в [Кнабе 1996: 203–239]. О классицизме в образовательной политике начала XIX века см. [Кнабе 2000:121–124]. Кнабе описывает предпринятые усилия – не всегда удачные – того периода для популяризации изучения классики, включая причисление преподавателей латыни к девятому классу в Табели о рангах – более престижному, чем десятый класс, к которому принадлежали остальные учителя.
. При Сергее Семеновиче Уварове, занимавшем пост министра образования с 1833 по 1849 год, в русских гимназиях акцент делался одновременно на латынь и древнегреческий [39] См. Носов в [Кнабе 1996: 204–206].
. Школьная реформа 1849 года снизила требования к изучению древних языков (латынь все еще требовалась тем, кто стремился получить университетское образование, но древнегреческий – нет), но после 1871 года, при министре образования Дмитрии Андреевиче Толстом, начался новый период более строгих требований к выпускникам, включавших финальный экзамен по древним языкам (там же, 217). Классицизм Толстого был связан с консервативными политическими идеями, суть которых состояла в поддержке имперской власти, и потому латынь, вызывавшая ассоциации с империей, ценилась им выше греческого – несмотря на акцент, делавшийся на православие, которое отвечало его консервативным идеалам (там же, 217–218) [40] Носов также отмечает влияние П. М. Леонтьева и М. Н. Каткова на составление программы 1871 года [Кнабе 1996: 211–213].
. И все же приверженность Толстого классической эпохе вызывала разочарование и недовольство многих студентов: ведь упор в преподавании делался на грамматику, а не на содержание. Мережковский, ходивший в Третью классическую гимназию в Петербурге, позже напишет следующие лишенные всякого энтузиазма слова: «То был конец семидесятых и начало восьмидесятых годов, – самое глухое время классицизма: никакого воспитания, только убийственная зубрежка и выправка» [Мережковский 19146,1:290] Писатель Александр Амфитеатров также вспоминал этот период как удручающее преобладание грамматики над идеями [Амфитеатров 1996, 2: 571].
Читать дальше