Реванш сентиментализма – это и есть наше мстительное попрание наших же былых идеалов. Первым произведением, в котором содержалось это разочарование, был, конечно, «Евгений Онегин»: «И столбик с куклою чугунной / Под шляпой с пасмурным челом, / С руками, сжатыми крестом… / Уж не пародия ли он?» Естественно, после разочарованности в байронизме, разочарованности в романтическом сверхчеловеке в литературе надолго воцарились слезы.
Настоящим мастером сочинения такой смеси сентиментальности и готики был Ганс Христиан Андерсен. Андерсен, который в 1835 году опубликовал первую порцию своих сказок, в это время гораздо влиятельнее Диккенса, не говоря о том, что он на семь лет старше.
Сам очень сентиментальный, Диккенс считал Андерсена гением детской литературы. Они познакомились в июне 1847 года, когда сорокадвухлетний Андерсен, автор знаменитых сказок, во всем мире обожаемый и переводимый, приезжает к Диккенсу, который только-только становится популярен в Европе, хотя Англия им уже бредит. (И кстати, русский переводчик Иринарх Иванович Введенский в том же 1847 году присылает Диккенсу письмо с предложением переводить появившиеся в печати куски «Домби и сына».) У Диккенса к тому времени вышли четыре из пяти «Рождественских повестей», и писал он их под сильным андерсеновским влиянием. И вот здесь мы с сожалением замечаем, как ужасно, когда больной гений влияет на здорового.
Диккенс – олицетворение душевного здоровья. Да, у Диккенса были и припадки черной меланхолии, и минуты жалости к себе, когда он рыдал и над своим несчастным детством, и тяжелым настоящим, но все-таки по природе своей он семьянин, у него страшное количество детей, беспрерывные любовницы до знаменитого последнего романа; в общем, Диккенс – человек, который любит жизнь, который при этом плодовитый писатель, успешен во всем, за что бы ни взялся, человек, который любит праздники и счастливые концы.
Совсем другое дело Андерсен. Андерсен в какой-то степени похож на нашего Гоголя с его ипохондрическими припадками, болезненной мрачностью, страшной нервностью, вечной девственностью, с такой же абсолютной любовью к Италии и нелюбовью к дорогому отечеству, где его якобы никто не понимает, – ну просто копия живая.
Андерсен – это апофеоз больного гения. Это болезненная недооценка собственной личности, собственной славы, неизменные разговоры о том, что его никто не любит, что он недооценен. (Гениальный датский скульптор Бертель Торвальдсен вспоминал, как Андерсен однажды едва не попал под фиакр, когда бежал через дорогу к нему навстречу сказать: «Меня приглашают в Италию! Эта проклятая холодная Дания не ценит меня! Меня оценит родина, только когда я умру!» И это он говорит о стране, в которой ему через десять лет поставят памятник при жизни!) Это нелюбовь к женщинам или, вернее, болезненный страх перед ними. Хотя лучшие женщины домогались его любви, Андерсен делал все возможное, чтобы не оставаться с ними наедине. Его приглашают в гости – он ссылается на недомогание. Его зовут в совместную поездку – он говорит, что у него творческие планы. Его зовут вместе ехать, наконец, в Италию с оперной певицей, которая влюблена в него, – он говорит, что в Италии не понимают его искусства, хотя Торвальдсену говорит ровно противоположное. Лишь бы не поехать никуда с любимой.
Эта женофобия есть, в сущности, боязнь жизни, панический страх перед ней. Более того, Андерсен всю жизнь одержим, и не без оснований, мыслью о собственной неуместности в мире людей, о собственной болезненной неуклюжести. И действительно, длинный нос, нос совершенно гоголевский, мешает ему, мешают длинные, нескладные конечности. Он иногда считает себя красавцем, а иногда – сущим исчадием ада. И вот из всего этого вырастает его странное, болезненное творчество.
Андерсен жесток и сентиментален, как немецкий офицер. Нет смысла пересказывать наиболее чудовищные его сказки, но вспомним хотя бы «Снежную королеву», вспомним ужасный ее финал, который только кажется прекрасным: «Розы цветут, красота, красота – / Скоро узрим мы младенца Христа!» Кай может, конечно, жить, но что это будет за жизнь после того, как он побывал в смерти? Я уж не говорю о страшной сказке «Девочка, наступившая на хлеб»; или «Красные башмачки» – о девочке, которая надела в церковный праздник красные башмачки и вынуждена была плясать в них до тех пор, пока в изнеможении не умолила палача отрубить ей ножки. Но всякий раз, как она грешила, ножки в красных башмаках появлялись перед ней и начинали плясать. Это, пожалуй, будет покруче, чем гоголевские руки мертвеца, который грызет сам себя. Я уж не говорю про страшную сказку «Ледяная дева» и уж, конечно, про «Девочку со спичками».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
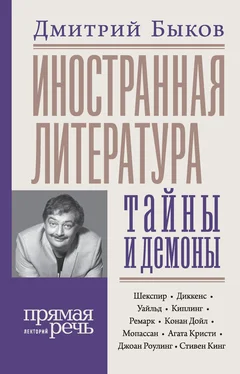


![Чарльз Буковски - Рассказы журнала [Иностранная литература]](/books/82412/charlz-bukovski-rasskazy-zhurnala-inostrannaya-lite-thumb.webp)
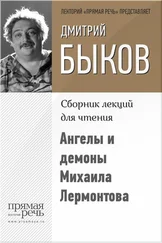


![Тед Хьюз - Новые стихи [Иностранная литература]](/books/218796/ted-hyuz-novye-stihi-inostrannaya-literatura-thumb.webp)
![Дмитрий Быков - Советская литература - мифы и соблазны [litres]](/books/398599/dmitrij-bykov-sovetskaya-literatura-mify-i-soblazn-thumb.webp)



