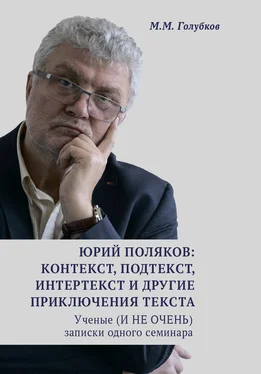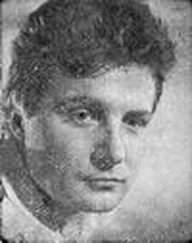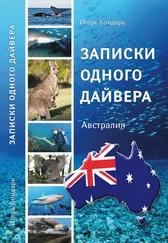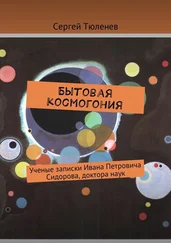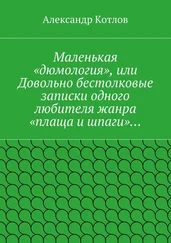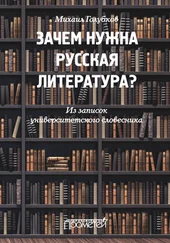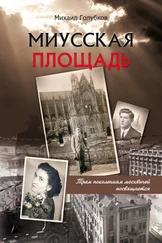Но помимо конкретно-исторического аспекта проблематики в этих произведениях есть еще и общечеловеческий, значимый на все времена. Он формируется двумя темами, проходящими в том или ином осмыслении через все творчество Полякова: это тема любви и тема творчества. И то, и другое наполняет жизнь смыслом и дает возможность преодолеть и измену Галатеи, и пустоту ничто, и фантасмагорические навороты игр спецслужб. «В объятиях любимого существа человек хоть на мгновение, хоть на долю мгновения чувствует себя бессмертным, вечным, неуничтожимым – и ради этого упоительного заблуждения готов на все». То же упоительное заблуждение (заблуждение ли?) дает и творчество. Вспомним еще раз суждение повествователя «Козленка в молоке»: «Женщина, которую любишь, и книга, которую пишешь, – что может быть главней?»
К вопросу об онтологической пустоте: «Грибной царь» Ю. Полякова и «Асфальт» Е. Гришковца как романы о современности
Общественная и литературная ситуация резко меняется к началу XXI века, в так называемые «нулевые» годы. Да, она была подготовлена предшествующими явлениями – постмодернистским презрением к реальности, девальвацией культурных, нравственно-этических ценностей, дезориентацией в историческом пространстве, когда цели и перспективы национально-исторического пути потерялись из виду. И все же она была совершенно новой…
Полякову, как и людям его поколения, пришлось столкнуться с ситуацией, его старшим современникам незнакомой. Она стала складываться уже в начале нынешнего века, в его первое десятилетие. Она является результатом травматического опыта, полученного обществом в «эпоху перемен». Результатом травмы стало тотальное обесценивание достигнутого предшествующими поколениями – в том числе, ближайшими к нам по времени. Лишенными ценности предстали мучительные поиски почвы героем Ю. Трифонова, усилия «теленка», борющегося с советским «дубом», описанные Солженицыным, этика ухода от всех форм социальной жизни, предложенная «сорокалетними». Ни борьба с системой, ни поиски почвы, ни этика ухода более не оправдывали писательства и, мало того, не составляли цели существования личности. Это была ситуация некого онтологического вакуума, который обесценивал открытия прошлого и не предвещал новых.
Об этом состоянии «нулевых» было трудно сказать, притом по нескольким причинам. Во-первых, оно с трудом поддавалась осмыслению, его можно было прочувствовать, но трудно артикулировать. А тем более осмыслить – и как некое общее состояние, когда утрачены прежние нравственные нормы и этические ценности, а новые еще не обретены, и не известно, будут ли найдены. И какими будут. Во-вторых, о таких вещах, если их продумывать до конца, говорить иногда страшно.
Подобная ситуация ощущалась как усталость, как похмелье после эйфории 90-х, как глубинное разочарование в достигнутых исторических результатах, как обман или самообман… И литература далеко не сразу смогла найти язык для того, чтобы ее описать и выразить.
Юрий Поляков всегда умел выразить время – задеть те болевые точки, которые волновали людей 80-х, 90-х, 2000-х годов. Он умел сказать то, о чем нельзя было говорить. Он легко преодолевал те «советские табу», о которых написал примерно в то же время Е. Эткинд в своей знаменитой статье, опубликованной в парижском журнале «Синтаксис» в 1981 году. Эткинд показывал, как из поля зрения советской литературы ушли темы, составлявшие подлинную, а не вымышленную национальную жизнь: она не знает ни изображения насильственной коллективизации, ни административных ссылок, ни политических репрессий, ни голода. Ю. Поляков обращается к другой эпохе и нарушает, соответственно, иные, позднесоветские, табу. Если вновь обратиться к ранним вещам, то его вхождение в литературу можно обозначить как слом советских табу последним советским писателем. В повести «Сто дней до приказа» он показал то, о чем знал каждый служивший по призыву, но было табуировано и не могло стать предметом изображения в художественной литературе, то, что потом назовут «неуставными отношениями» в Советской армии – и стал сразу же писателем своего поколения, рассказав о том, что пережили его ровесники, т. е. люди лет на десять старше-младше него самого или родившиеся в один год с ним. Преодолевая советские табу, он показал изнутри быт секретаря РК ВЛКСМ, погруженного не только в созидание характеров Корчагиных нового времени, но и в клубок интриг, соперничества, зависти и прочих замечательных обстоятельств жизни высшего комсомольского актива, о чем говорить не полагалось.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу