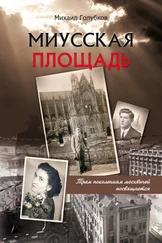Своей гибелью Катерина в последний раз вызвала ярость, слезы и отчаяние у любившего ее мужчины: «Какая же ты, Катька, стерва! Из-за тебя я убил человека. Женщину, которую любил. Мне будет не хватать ее всю жизнь! Ненавижу тебя! Ненавижу навсегда…» [Поляков, 2016: 246]. Павел пережил Катерину всего на несколько месяцев, его расстреляли киллеры, но жизнь его закончилась со смертью той, кто стал для него смыслом жизни.
Ю. Поляков так же, как и аббат Прево, сочувствует своим героям, ему искренне жаль, что, обладая несомненными положительными качествами, они выбрали путь порока. Странное было это время, вызвавшее эрозию многих человеческих ценностей. По словам А.Ю. Большаковой, смерть героев «не проясняет смысл бытия. А только ярче высвечивает контрасты современной России, в которой самоотчужденность и эгоизм все настойчивей проявляют себя в качестве экзистенциальных свойств человека» [ «Моя вселенная – Москва», 2014: 402].
Авторы двух предшествующих материалов очень точно определили одну из сторон мироощущения Ю. Полякова: ироничность. Однако ирония может быть разной: может быть разрушительной и саморазрушительной, может быть спасительной… В своей статье 1993 горда «Я не люблю иронии твоей…» Ю. Поляков говорил об иронии как об очень остром оружии, обращаться с которым надо аккуратно. Статья направлена против иронии разрушительной, царящей тогда в газетах, в электронных СМИ, иронии, переходящей в хамство отрицания, ставшей как бы знаком новой свободы – свободы осмеивать и издеваться – над всем и надо всеми. Тоже, кстати, интересная черта к портрету 90-х годов, который мы с вами пытаемся создать.
Но ирония может быть и формой самозащиты. «Блистательный щит иронии! Мы закрывались им, когда на нас обрушивались грязепады выспреннего вранья, и, может быть, поэтому не окаменели, – писал тогда наш автор. – Ирония вкупе с самоиронией была средством психологической, нравственной защиты от нелепого жизнеустройства, а автор этих строк был именно за ироничность своих повестей и бит, и хвалим».
В основе иронии всегда лежит иносказание: говорится одно, при этом подразумевается другое. Простейшим примером иронии может быть обращение к другу, сделавшему что-нибудь непотребное (например, обрызгавшему ваши новые брюки нелепым шагом в грязную лужу): «Ну, ты молодец!» Ясно, что вы далеки в данной ситуации от подобной его характеристики, имеется в виду, скорее, противоположное. Разумеется, столь простых случаев иронии у Полякова не найдешь, хотя слова его героини «СПИД – это всего лишь одно из имен Бога», пожалуй, близки к ним. Но важнее другое – это ироничный взгляд на мир, который характеризует писателя.
Ирония – это еще и форма инакомыслия, писал в той статье Поляков. И ведь инакомыслия, политической оппозиционности ему тоже хватало всегда. «Близость к власти мне только вредит», – сказал он в одном из недавних интервью.
Так чего больше в его книгах? Иронии как формы инакомыслия? Иронии разрушительной? Или все же спасительной?
Убийственная ирония: почему Поляков так жесток?
У критика, который интерпретирует сатиру Юрия Полякова, есть, вероятно, два основных пути: весело смеяться с автором, смахивая вместе с ним невидимые миру слезы, следуя его мысли, следя за невероятными, алогичными, абсурдными поворотами сюжета, погружаясь в гротескные ситуации, которые, тем не менее, воспринимаются как вполне реальные. И часто невероятно смешные! Такой путь интерпретации вполне перспективен: двигаясь шаг за шагом за писателем, мы пытаемся понять то, что «хотел сказать автор», ибо кроме автора в тексте ничего нет и не может быть. Это, с определенными оговорками и упрощениями, основополагающий принцип герменевтики как литературоведческой методологии анализа художественного текста.
Но как была бы скучна критика и чопорно литературоведение, если бы серьезному герменевтическому направлению, академическому, строгому, скрупулезно изучающему биографию творца и философские, эстетические, социокультурные, бытовые реалии его эпохи, не противостояла бы критика, условно говоря, постмодернистского направления – озорная, веселая, способная воспринять и продолжить авторскую игру – как будто отбить ракеткой теннисный мячик и оправить его обратно, за сетку, на авторское поле… Такой критик не страдает скрупулезностью дотошного исследователя, который в погоне за герменевтической достоверностью станет пытаться изучать, какие бутерброды давали в буфете ЦДЛ на рубеже 80—90-х годов и действительно ли автор мог употребить некий чудесный эликсир, произведённый первыми, еще советскими, кооператорами под названием «амораловка»? Эти вопросы не заинтересуют критика-постмодерниста: он, скорее, окажется на том самом корте, где играет автор, и включится в эту игру, дополняя авторский замысел новыми смыслами и не особо заботясь о том, видел ли их сам писатель. «Что хотел сказать автор» – вопрос, мене всего волнующий постмодерниста. Ему интереснее, что может сказать он сам об авторском тексте, какие «мерцающие» в нем смыслы обнаружатся, если начать играть по правилам, предложенным автором.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу