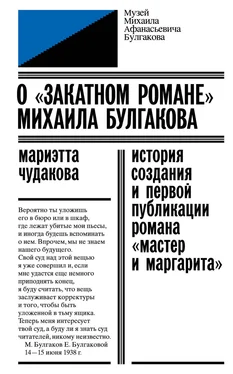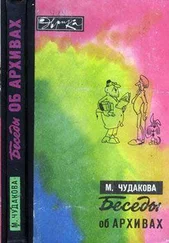Все это весьма мало имело отношения к реальному Сталину (он не знал сочувствия к своим жертвам), но Булгаков об этом вряд ли подозревал. Выдающиеся люди искусства, чьей творческой жизни выпало страшное время, – Булгаков, Пастернак, Мандельштам – невольно судили о Сталине по себе , безмерно его переусложняя.
Считал ли Булгаков, что Сталин прочитает роман? Скорей всего – да. Он был уверен, что Сталину интересно его творчество, что он даже увлечен им (с чисто политическими целями все-таки вряд ли возможно смотреть «Дни Турбиных» 15–17 раз). В 1931 году (год, когда ломался после разговора со Сталиным замысел романа) Булгаков начал, но оставил на третьей строке письмо Сталину: «Около полутора лет прошло с тех пор, как я замолк. Теперь, когда я чувствую себя очень тяжело больным, мне хочется просить Вас стать моим первым читателем…». Весной того же года он написал и отправил большое письмо Сталину, но ответа не получил (хотя письмо дошло до адресата).
В недрах романа таилось еще одно «письмо» Сталину.
Работая над романом, Булгаков не только не мог забыть его специфического эпистолярного контекста – он не без наивности (как уясняется только ретроспективному взгляду) предполагал, что роман, попав на стол адресату писем, и для него окажется в том же эпистолярном контексте, будто бы живом и в его памяти…
Поэтому среди разных истолкований реплики Воланда «Рукописи не горят!» стоит иметь в виду и такое: фраза из письма 1930 года – «бросил в печку черновик романа о дьяволе…» – почти буквально повторена Мастером: «…Я сжег его в печке»; этой репликой адресату письма и романа навязывался высокий тон предполагаемого контакта. Какой же именно?
Булгаков полагал, что Сталин вспомнит письмо 1930 года с трагическими деталями сожжения творческих рукописей, а также и письмо 1931 года: «с неудержимой силой во мне загорелись новые творческие замыслы»;
«писательское мое мечтание заключается в том, чтобы быть вызванным лично к Вам».
И вопрос Воланда: «А кто же будет писать? А мечтание , вдохновение?», и ответ Мастера: «У меня больше нет никаких мечтаний и вдохновения тоже нет» – содержат, на наш взгляд, отсылку к письму. Изображая себя, покончившего с мечтаниями , автор, однако, самим наличием романа предъявлял себя же самого, исполненного вдохновения .
В романе идет разговор о литературе, не состоявшийся в жизни. Почти вульгарной, бытовой, выпадающей из стилевой ткани нотой звучит реплика Маргариты: «Позвольте мне с ним пошептаться». В текст романа инкорпорируется – как письмо, написанное особыми чернилами между строк книги, – сообщение со специальной адресацией: «…что-то пошептала ему. Слышно было, как он отвечал ей: – Нет, поздно. Ничего больше не хочу в жизни. Кроме того, чтобы видеть тебя».
Здесь зашифрован вторичный – спустя почти десять лет после застигнувшего автора романа врасплох телефонного звонка – отказ от просьбы об отъезде.
Теперь – отказ человека, многократно все передумавшего и разуверившегося в успехе каких бы то ни было своих писем и просьб.
В этой финальной сцене Маргарита берет на себя ответственность и инициативу, на долю Мастера оставляя только отказ: «Я нашептала ему самое соблазнительное, а он отказался от этого».
Мы полагаем, что это не могло быть написано вне контекста писем. В этих словах заключалось сообщение – больше никуда не прошусь; опоздано.
Не отрицалась, однако, соблазнительность неосуществленных мечтаний… И подсказкой судьбе, ее заклинанием звучали следующие реплики Воланда, посылаемые автором не только неведомому будущему читателю, но и вполне конкретному «первому читателю»: «…ваш роман вам принесет еще сюрпризы…
Ничего страшного уже не будет».
Главному адресату романа фигура всесильного духа зла, совершающего благо, должна была, повторим, импонировать. И все же возможное отождествление, надо думать, пугало автора. И поэтому вводится еще одна проекция – теперь на Иешуа.
«Он прочитал сочинение Мастера», – говорит Левий Матвей о Иешуа. «Ваш роман прочитали», – сообщает Мастеру Воланд. Навязчивая, колеблющаяся в процессе писания романа авторская мысль о чтении Сталиным романа как решающем судьбу и романа, и автора отрывается наконец от всякой прагматики. Факт чтения остается в романе – но он выводится за границу земной конкретности и передается в иной мир. Роман переадресовывается будущим читателям: время действия в эпилоге дано так, чтобы оно могло быть совмещено с любым временем будущего чтения.
Читать дальше