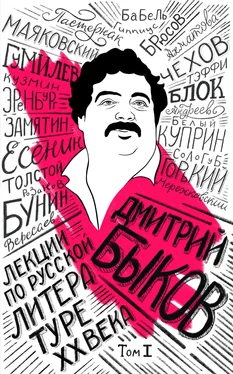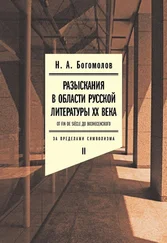Посмотрите на Котовского, вот парадоксальная фигура. Это грабитель, разбойник, маргинал, это герой, это в некотором смысле национальный святой, потому что поведение его в Одессе, когда он выступал неким Робином Гудом, отнимал у богатых и передаривал бедным, тоже делает его легендой. Дело не в том, что Беня Крик налётчик. Дело в том, что Беня Крик приходит упорядочивать мир, разорённый отцом, мир, в котором отец грубил, хамил, а Беня Крик пришёл наводить новые связи. Он очарователен. Вот это очарование никто не может сыграть. Все играют убийцу, бандита, а Беня Крик от бандитизма не получает никакого удовольствия. Вы же помните, когда в знаменитом рассказе «Король», в сцене свадьбы его сестры Двойры, он в отчаянии, что ему нарушают праздник, говорит: «Папаша, не обращайте внимания на этих глупостей. Прошу вас, выпивайте и закусывайте…»
В том-то и дело, что для него мир работы и мир пиршества очень тесно связаны, но при этом очень жёстко разделены. Надо отдельно пировать и отдельно убивать. И когда в рассказе «Справедливость в скобках» оказывается, что убивать не надо, что бандитов Цудечкис стравил по ошибке, они начинают целоваться от радости. Им очень хорошо оттого, что лишнего злодейства совершать не надо.
Вот что надо играть: милосердие, радость, а играют налётчиков. Поэтому ни сценической, ни кинематографической судьбы проза Бабеля не имеет, если не считать довольно удачной экранизации «Биндюжник и Король», и то только потому, что там стихи песен писал замечательный прозаик и переводчик Асар Эппель, который всё-таки почти конгениально Бабелю сумел перевести это на театральный язык, а Алеников снял. В принципе, приходится признать, что если какая-то вещь сделана в жанре прозы, то, как замечал Шкловский, зачем портить сделанную работу? Давайте придём к мысли, что какие-то вещи остаются непереводимыми.
Сергей Есенин
«Чёрный человек», 1925
Сразу приходится сделать сноску: конечно, эта поэма не 1925 года. Написана она в общих чертах в 1923-м, в 1925-м Есенин её закончил и начал читать, обнародовал. Причина, по какой он не мог написать эту вещь в последний свой год, довольно проста – Есенин героически, не побоюсь этого слова, сделал распад собственной личности главным сюжетом собственной лирики.Тут вам и алкогольная деменция, тут и всё более асоциальное поведение, и безумные вспышки злобы и подозрительности, и скандалы, его сопровождавшие. Но прежде всего, конечно, как правильно он сказал: «как рощу в сентябрь, осыпает мозги алкоголь».
Действительно, поздние стихи Есенина – кстати, как раз и наиболее любимые народом, – они несравненно хуже прежних, именно поэтому так и любимы. Они примитивны, они носят на себе следы именно распада личности, ни одной темы взятой он уже не может выдержать. Конечно, от того блистательного поэта, которым он был в 1918–1922 годах, поэта кабацкой Руси, Руси уходящей, поэта крестьянской утопии, его позднего отделяет бездна. Но это, в общем, тоже героизм – сделать распад собственной личности, крах собственной биографии темой своего творчества. Это не самое плохое, знаете, это как будто врач сам анатомирует себя.
Что такое «Чёрный человек»? Для того чтобы понять эволюцию темы двойничества в русской литературе, нам с вами придётся обратиться к наиболее прямому предшественнику Есенина. Главный парадокс русской циклической литературной истории заключается в том, что иногда один поэт как бы распадается на двух, потому что совмещать одно мировоззрение в одном сознании становится невозможно. Оно как бы раздваивается. И вот самый страшный, самый наглядный пример такого раздвоения – это Некрасов. Раздвоиться ему пришлось потому, что патриотизм и гражданственность уже несовместимы. Уже если ты патриот, то совести у тебя не должно быть и не должно быть гражданственности, ты должен только говорить, как всё прекрасно, или, уж если всё не прекрасно, то в этом виноват кто-то другой, а никак не мы. А если ты гражданин, у тебя не получается быть патриотом. Получается, что ты всё время упрекаешь отечество, а оно обижается. «Кто живёт без печали и гнева, тот не любит отчизны своей», – говорит Некрасов. Но в ХХ веке, уже если кто любит отчизну, то уже не может быть ни печали, ни гнева, а один восторг, и восторг чаще всего официальный. И вот случился страшный, катастрофический распад. Дело в том, что у Некрасова вообще было при жизни нечто вроде раздвоения личности. Сегодня это называется биполярным расстройством, когда-то называлось МДП, маниакально-депрессивным психозом. Выражалось это в том, что у него периоды бурной активности чередовались с периодами мрачной депрессии, когда он лежал лицом к диванной спинке и не принимал никого. Периоды абсолютной инертности чередовались с бурной и страстной игроманией, когда ему случалось играть неделю напролёт, он это называл «размотать нервы». И перед каждой большой работой у него случались такие «игроцкие» запои, потому что он после этого лучше писал. Вот так, например, вот эта пронзительная, слёзная интонация «Русских женщин» («Декабристок»), это именно следствие «размотанных нервов». Понимаете, он ведь и писал так же, запоями. У Некрасова случались периоды творческого молчания, которые по году продолжались. А случались такие литературные запои, которые продолжались опять-таки месяцами, когда гигантские куски поэтические, такие, как, скажем, «Пир на весь мир», созданы были за два месяца титанической работы. Так вот, Некрасов странным образом раздвоился в русской литературе: линия урбанистическая, линия желчной городской поэзии, линия гражданственная вся досталась Маяковскому, а линия сельская, напевная, элегическая – досталась Есенину. Удивительным образом раздвоились даже его пороки: игромания досталась Маяковскому, безумному картёжнику, который, впрочем, играл во всё, потому что как бы постоянно вопрошал судьбу, – а пьянство досталось Есенину. Потому что Некрасов, как мы знаем, тоже, случалось, пивал запоями и не без удовольствия, но, правда, алкогольного распада никогда не было. Это всё досталось Есенину, который довёл эту тему до полного абсурда. Лирика городская, лирика, рассказывающая об «адище города», как называл это Маяковский, – это, конечно, Маяковский, особенно футуристического периода. Картины сельской жизни, то страшной, то идиллической, – это Есенин.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу