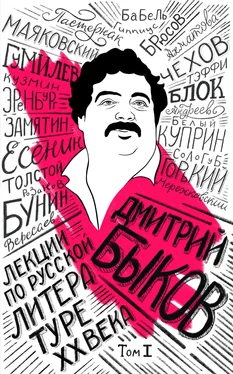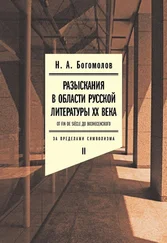Им действительно удаётся разрушить Стену, люди начинают лихорадочно совокупляться – это первое, что они делают. В Городе появляются птицы, – что самое поразительное, до этого их не было, он был огорожен куполом. В Город врывается дикая жизнь, но потом распорядок берет своё, начинается строительство электроволновой стены, как рисуется инженеру Замятину, надёжней построить стену из волн. А дальше казнят, естественно, I, а над Д-503 производят мучительную операцию: ему ампутируют душу, и он уже без этой случайно отросшей души опять становится абсолютно прежним и радостно пишет: «Мы победим. Потому что разум должен победить».
Это вообще сюжетно очень наивная книжка. Я вам не очень приятную вещь скажу: дело в том, что Замятин, как и Булгаков, в рассказах сильнее, чем в романах. Романы у него всегда либо очень предсказуемые, либо немного дурновкусные. Лучший свой роман «Бич Божий» про Аттилу, роман о судьбах Европы, роман о прафашизме, как он его понимал, он не закончил, есть только первый том, эпос остался недописанным. В принципе, Замятин не романист. Он замечательный новеллист. Такие его новеллы, как «Пещера» или «Наводнение», – на мой взгляд, его лучший рассказ, действительно одна из самых страшных, криминальных, кровавых и при этом тонко написанных историй в русской литературе, замечательный рассказ о любви, ревности, убийстве, или замечательная маленькая повесть «На куличках» – это, безусловно, шедевры.
Что касается «Мы», то в этой книге ощущается ужасное скрещение, несовпадение. Это очень хорошо написанный, очень ярко придуманный мир, в котором происходит древнейший наивный и в общем абсолютно ходульный сюжет. По большому счёту сюжет этот неважен, хотя он потом повторился у Оруэлла. Он, безусловно, знал Замятина, и любовь, взрывающая тоталитарный социум, и конечное поражение этой любви – всё у него расписано. Проблема-то в другом. Замятин очень точно, очень убедительно описал утопию разума, замкнутого в самом себе, обречённого на одиночество, лишённого контакта с внешним миром.Но трагедия на самом деле произошла совсем от другого, и это показано в картине Лопушанского «Гадкие лебеди»: от того, что разум лишился всех своих прав, от того, что восторжествовала дикость, был взят курс на упразднение системы. Будущее выглядело не таким стерильным, как оно рисовалось Маяковскому, не таким экономным и стремительным, как оно рисовалось Замятину в записках Д-503. Лаконичная фраза будущего, всё конспективно, всё разумно – этого всего не сбылось, хотя этого больше всего боялись.
Сбылось другое. Сбылся триумф диких лесных людей, которые по-настоящему и захватили власть, они были объявлены подлинными гражданами. Чем дичее, тем лучше. Курс на дикость, установка на грубость, примитив, на животное, толпу – этот инстинкт победил. Страшно себе представить, хотя очень хорошо было бы, конечно, представить какого-нибудь автора, который бы написал «Они», условно говоря, своеобразное «Анти-Мы», утопию о жизни лесных людей. Вот этой утопией оказался тоталитаризм, потому что лесные люди, когда захватывают власть, гораздо более жестоки, нерациональны, пыточны и страшны, чем люди разума. Да, светлое, стерильное будущее, которое пытались, как кажется Замятину, построить большевики, рациональное будущее, в котором нет места душе, наверно, весьма опасно. Но нельзя сказать, что в мире лесных людей тоже есть место душе.
А I, которая воспользовалась своим несчастным любовником, чтобы захватить ИНТЕГРАЛ, – это сильно духовное существо, может быть? Замятин сам прекрасно понимает, что от неё исходит тонкий яд, и то, как она героически выдерживает пытку под колоколом, когда из-под неё откачивают воздух, не делает её ближе или милее. Да, это мужественное существо, действительно, замечательная героическая женщина, но ведь на самом деле это женщина, для которой нет ничего святого, которая воспользовалась влюблённостью наивного дурака, почуяв в нём какую-то каплю солнечной крови. У него очень волосатые руки, от чего он жестоко страдает. Она воспользовалась им с цинизмом, который достоин Благодетеля. В этом и весь ужас. Конечно, утопия разума – это вред, но утопия без разума, которая построена отчасти в советской России и уж полностью в нынешней России, – это ничуть не альтернатива. Главный страх Замятина перед дисциплиной, нормой, триумфом расчёта – оказался, к сожалению, мимо денег.
Интересно, что Замятин в последние свои годы, уже уехав в Париж, но сохраняя советское гражданство, даже присутствуя на советских конгрессах и вступив в Союз писателей, ничего не писал, кроме «Аттилы».Связано это было, наверно, отчасти с тем, что свои корни он утратил, он жил в языковой стихии, язык чувствовал, как никто. Достаточно прочитать «Блоху», его гениальную переделку Лескова, чтобы понять, как он чувствовал стихию языка. Вообще Замятин очень русский, невероятно русское явление сочетания русского таланта, русской шири с русской же великолепной самодисциплиной. Он, конечно, менее англичанин, чем классический среднерусский инженер-самоучка. Он ничего не писал, потому что утратил связь со средой, но ещё и потому, что мир, с которым он столкнулся, был для него совершенно незнакомым и непредсказуемым. Фашизм, который стал главной опасностью и триумф которого в Европе он застал, исходил вовсе не из разума. Фашизм – это иррациональная стихия, эклектическое учение, учение Гербигера о мировом льде, о титанах, мистические и магические ритуалы. Замятин увидел лицо главной чумы XX века и понял, что, пожалуй, мир Благодетеля на этом фоне ещё очень и очень ничего себе, ведь фашизм и был по-настоящему триумфом дикости, апофеозом невежества. Когда Замятин увидел сожжение книг, он, кажется, понял, что, точно почувствовав запах эпохи, он не различил причин этого запаха. Он молчал от разочарования.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу