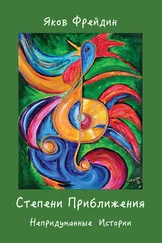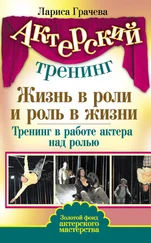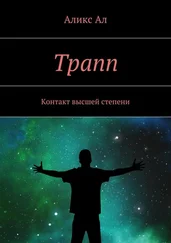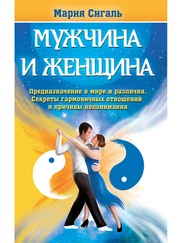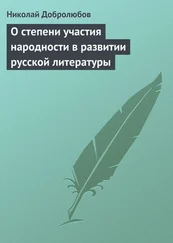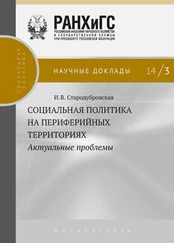Лингвистическое содержание понятий «центральные» и «периферийные» говоры изучено не в одинаковой мере.
Понятие «центральные» говоры уже родилось, наполненное таким содержанием; как указывают авторы «Диалектного членения», это говоры, характеризующиеся, как правило, теми членами междиалектных соответствий, которые совпадают с соответствующими явлениями литературного языка. По своему происхождению они, в соответствии с уже установившимся в науке мнением, являются преемниками бывшего ростово-суздальского диалекта (с. 61).
В понятие же «периферийные» говоры первоначально не вкладывалось никакого общего лингвистического содержания. Их характеристика сводилась к набору внешне разнородных явлений, представляющих собой специфически диалектные соответствия явлениям, характерным для центральных говоров (с. 59). Эти явления в «Диалектном членении» только перечисляются [3] Приведем этот перечень, ограничившись лишь явлениями регулярной фонетики: 1) наличие гласных фонем средне-верхнего подъема ([о̂], [е̂]); 2) случаи неперехода [е] > [о] перед твердыми согласными; 3) неразличение аффрикат; 4) долгие твердые шипящие; 5) наличие [в], чередующегося с [ў] в конце слога и слова; 6) отсутствие фонемы ‹ф›; 7) наличие в соответствии с л — [l] европейского и/или возможность чередования [л] с [ў] в конце слога и слова; 8) отсутствие мягких губных на конце слова; 9) долгие мягкие переднеязычные в соответствии с сочетаниями этих согласных с [ј] ( сви [н̄ʼ] я , весе [л̄ʼ] е ).
. Им в этой работе не дается никакой содержательной интерпретации, которая позволила бы уяснить, в чем состоит их лингвистическая общность. Даже напротив, специально подчеркивается, что «нельзя говорить о внутреннем единстве периферийных говоров» (с. 61), и это действительно, как будто, вытекает из данной им лингвогеографической характеристики, согласно которой разные периферийные явления могут связываться по преимуществу с разными участками этой периферии и тем самым органически входить в состав достаточно различных диалектных объединений, расположенных на территории периферийных говоров (см. там же).
Что же собой представляет вновь обнаруженная в русских диалектах территориальная оппозиция, в чем ее лингвистическая сущность? По-видимому, прежде всего требуется установить, есть ли нечто общее, объединяющее явления периферии, и тем самым уяснить, имеется ли какая-либо лингвистическая основа для противопоставления центральных и периферийных говоров.
Решение этих вопросов оказалось весьма существенным в эволюции сложившихся представлений об истории диалектных различий русского языка. Не случайно, что поиски в этом направлении стали вести бок о бок с разработкой вопросов исторической диалектологии на базе карт ДАРЯ с привлечением данных памятников письменности. Авторами «Диалектного членения» совместно с другими авторами монографии «Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров» (М., 1970 / Под ред. В. Г. Орловой) эта работа велась в общем плане ретроспективного изуче ния изоглосс отдельных диалектных явлений в связи с уяснением их роли в формировании изучаемых диалектных подразделений. В ходе работы были установлены важные историко-диалектологические факты. В частности были выявлены черты «общезападного» происхождения, сказавшиеся на формировании севернорусского наречия и среднерусских говоров, многие из них как раз и относятся к числу черт, получивших в «Диалектном членении» название периферийных. Это черты, характерные в прошлом не только для Новгородских (часто и Псковских) говоров, но и для тех, которые примыкали к ним с юга, — говоров бывших Смоленской и Полоцкой земель, а в ряде случаев и более южных (с. 200—202) [4] Типичный периферийный ареал демонстрируется в данной книге на карте 8, посвященной твердым губным (в соответствии с мягкими) на конце слова.
. В монографии «Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров» (раздел II, 5) подчеркивается также, что эти «общезападные» черты, как правило, известны и другим восточнославянским языкам. Важно и то, что авторы монографии считают возможным на основе анализа соответствующих явлений утверждать «историческое единство новгородского диалекта с другими говорами западных территорий», которое «сложилось на базе общности языковых переживаний, характерной для говоров западных земель в отличие от говоров Ростово-Суздальской земли, а позднее Великого княжества Московского» (с. 211) [5] Согласно данным монографии, территория центральных говоров в своем более широком варианте, исторически корреспондирует с совокупной территорией Ростово-Суздальской земли и примыкающими к ней с юга восточной частью Черниговской и Рязанской (или Муромо-Рязанской) землями. В монографии в историческом плане эта совокупность территорий именуется «востоком».
. Отмечается, что эта общность, отражающаяся в распространении черт общезападного характера, перекрывающих современное диалектное членение, «может быть связана с такими периодами истории диалектных групп, которые предшествовали образованию современного диалектного членения языка» (с. 200). Однако и в более позднее время обособленность исторических «запада» и «востока» (в терминах современного диалектного членения — это «периферия» и «центр») продолжала существовать (с. 227—228), что объясняется не столько их изолированностью, сколько различием тенденции языкового развития (с. 229) [6] Здесь эти тенденции обрисовываются с отсылкой к работам: Горшкова К. В. Из истории консонантных различий русского языка. — Филолог. науки, 1964, №4; Она же. Развитие диалектных различий севернорусских говоров в системе вокализма. — ВЯ, 1964, №5; Она же. Очерки исторической диалектологии Северной Руси (по данным исторической фонологии). Автореф. докт. дис. М., 1965.
.
Читать дальше