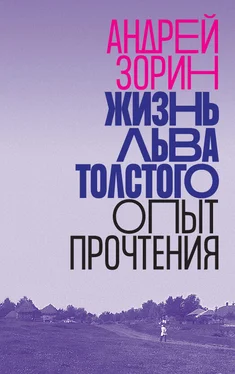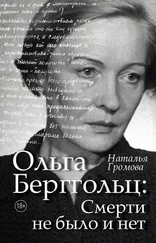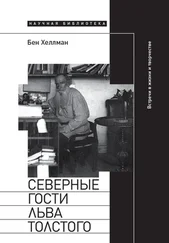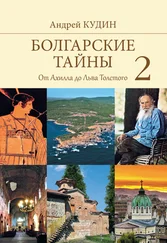Как всегда, Толстой менее всех был удовлетворен результатами своих усилий. Он привел в ужас Страхова, назвав благотворительную работу в Бегичевке «глупой» [56]. Ему было ясно: все, что он сумел сделать, – лишь капля в море общих страданий, и обильный урожай 1893 года не покончит с нищетой и голодом. Его волновала не филантропия, а человеческая душа. На всем протяжении работы по помощи голодающим он писал, переписывал и редактировал книгу «Царство Божие внутри вас», где сосредоточился на заповеди ненасилия, которую считал главной из всех заповедей Христа.
Начав проповедовать свою версию Евангелия, Толстой убедился, что его слова не были гласом вопиющего в пустыне. Многие мыслители, секты и общины отстаивали принцип полного отказа от насилия и стремились воплотить его в жизнь задолго до того, как он сам пришел к этой идее. В новом труде Толстой отдал должное этому разрозненному сообществу духовных братьев, для которых он стал естественным центром притяжения. Он опровергал возражения тех, кто считал, что насилие совместимо с учением Христа, что оно может служить средством прогресса или является непременным условием человеческого существования.
Для Толстого власть монархов, чиновников, генералов и судей всецело зависела от готовности простых людей выполнять их приказы. Ему показалось, что он нашел ахиллесову пяту системы всеобщего принуждения. Самым эффективным способом ее разрушить мог стать добровольный массовый отказ от военной службы в любых ее формах – страницы книги Толстой наполнил рассказами о тех, кто предпочел терпеть преследования, но не брать в руки оружия и не приносить присягу, противоречащую их убеждениям.
Толстой начал писать «Царство Божие…» еще до голода. По пути в Бегичевку он встретил солдат, посланных подавлять крестьянский бунт, который вспыхнул из-за споров с землевладельцем о мельнице. Как вспоминал последователь и один из первых биографов Толстого Павел Бирюков, эта встреча произвела на Льва Николаевича не меньшее впечатление, чем смерть брата или зрелище публичной казни в Париже.
В Заключении своей книги Толстой размышлял о причинах превращения обычных молодых людей с симпатичными открытыми лицами в профессиональных убийц, готовых стрелять в себе подобных. Решающую роль в этой страшной метаморфозе играло, по его мнению, универсальное социальное лицемерие, убеждающее людей, что насилие необходимо и оправдано общим порядком мироустройства. Толстой признавал, что не каждый человек способен всегда следовать голосу совести, но не следует по крайней мере обманывать себя насчет причин и следствий своих поступков. Искренность перед собой должна стать первым шагом к нравственному возрождению. Человек, впустивший в себя царство Божие, в дальнейшем почувствует себя вынужденным жить по его законам.
Отдавать такой труд в цензуру было бы бессмысленно. Завершив книгу в 1893 году, Толстой сразу отправил ее за границу для перевода и публикации в оригинале. Цензурные правила, применявшиеся к книгам на иностранных языках, были мягче, поскольку их аудитория неизбежно ограничивалась образованными сословиями, но на этот раз русские цензоры немедленно запретили ввоз даже французского перевода «самой вредной книги из всех, которые ей когда-нибудь пришлось запрещать» (ПСС, XXVIII, 366). Конечно, остановить распространение трактата это не могло.
Самому Толстому жизнь по законам царствия Божьего давалась тяжело. В сентябре 1891 года после долгих споров он убедил Софью Андреевну опубликовать заявление с отказом от авторских прав на его произведения, написанные после 1881 года – времени его религиозного обращения. Все предыдущие произведения, включая оба романа, оставались в ее исключительной собственности; кроме того, она могла печатать и продавать собрание сочинений мужа, хотя частично их содержание и не было защищено авторским правом. Следующей весной Толстой отказался от собственности на землю, но не передал ее крестьянам, а разделил между женой и детьми.
Этот вымученный компромисс мог бы стать основой для соглашения о разводе, однако Толстые продолжали жить в одном доме, где бывший хозяин внезапно оказался иждивенцем, не отвечающим за благополучие семьи и не имеющим права вмешиваться в возможные конфликты между домашними и крестьянами. В дневниках, письмах и разговорах Толстой постоянно жаловался на «роскошь», в которой жил.
Сегодняшнему посетителю и яснополянского, и московского домов трудно заметить эту роскошь. Оба дома выглядят скромно, а яснополянский и вовсе аскетичен и попросту мал для такой большой семьи. Толстой, однако, сравнивал себя не с людьми своего круга, а с крестьянами, теснящимися в темных избах. Относительный комфорт собственного существования казался ему невыносимым и прямо противоречащим его же учению. При его славе весь мир мог наблюдать несоответствие между его проповедью и образом жизни.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу