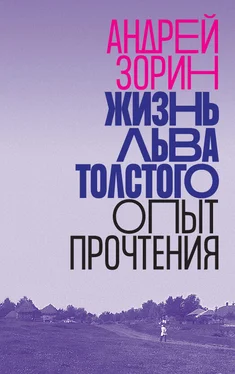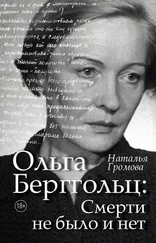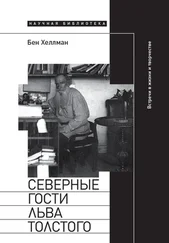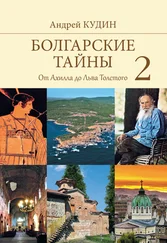Учение Христа есть учение об истине. И потому вера в Христа не есть доверие во что-нибудь, касающееся Иисуса, но знание истины. В учение Христа нельзя уверять никого, нельзя подкупать ничем к исполнению его. Кто понимает учение Христа, у того и будет вера в него, потому что учение это – истина. А кто знает истину, нужную для его блага, тот не может не верить в нее, и потому человек, понявший, что он истинно тонет, не может не взяться за веревку спасения. (ПСС, XXIII, 410)
Толстой прочитал Евангелие как историю незаконнорожденного мальчика и бездомного бродяги, пошедшего на мучительную смерть во имя света, который он нес в мир. Низкое происхождение и позорная казнь не только не отнимали ничего от величия и красоты его проповеди, но, напротив, придавали ей ту силу и ту истинность, которые претензии на генеалогическое древо, восходящее к Творцу вселенной, или искусственный хеппи-энд вроде воскрешения из мертвых, могли только подорвать. Идея, что Бог мог послать своего сына на крест, поражала Толстого неприкрытым кощунством.
По Толстому, «учение Христа» сводилось к пяти заповедям, которые развивали или отменяли заповеди, данные Моисеем. Первая заповедь состояла в том, чтобы жить с людьми в мире и не называть другого «пропащим или безумным». Вторая запрещала прелюбодеяние, которое включало в себя развод и повторный брак. Третья заповедь требовала от человека не приносить клятв, то есть не присягать никаким земным властям и не участвовать ни в каких судебных процедурах. Четвертая, самая главная с точки зрения Толстого, воспрещала противиться злу насилием. Даже в обстоятельствах, угрожающих его жизни, человек не имел права прибегать к силе, но должен был принимать свою судьбу со смирением и молитвой. И, наконец, пятая заповедь повелевала не считать других людей чужими или враждебными, то есть, по существу, упраздняла деление человечества на народы.
Исходной точкой для Толстого стал парадокс человеческой истории, отмеченный еще в «Общественном договоре» Руссо: «Человек рождается свободным, но повсюду он в оковах. Иной мнит себя повелителем других, что не мешает ему быть рабом в большей еще мере, чем они». Руссо полагал, что знает, как «придать этой перемене законность» [45]. Следуя ему, авторы американской Декларации независимости пытались определить правовые рамки государства, которое сумеет гарантировать гражданам их законную свободу.
Толстой, как всегда, пошел дальше, чем кто-либо другой. Для него установленные Богом и природой свобода и равенство означали, что никакая форма принуждения по определению не может быть легитимной и никакое насилие ни при каких обстоятельствах не может быть оправдано. Толстой настаивал на строго буквальном понимании этих тезисов. Он не представлял себе утопическое христианское государство, потому что любое государство с его правителями, парламентами, политиками, законами, судами, тюрьмами, чиновниками, солдатами, полицейскими, сборщиками налогов и прочими предполагало существование иерархии и власть одних над другими.
В «Войне и мире» Толстой прославил народную войну против захватчиков, теперь же он считал воинскую службу самым страшным злом человеческой истории. Свое правительство было для него не легитимнее любого чужого – для его соотечественников было бы меньшим злом жить под властью французов, турок или кого угодно еще, чем идти на войну и убивать людей.
Точно так же никакое преступление не может служить оправданием для наказания, основанного на насилии. Разбойники и убийцы, действующие на свой собственный страх и риск, заслуживают, в глазах Толстого, больше сочувствия, чем палачи или судьи, посылающие людей на казнь, находясь под защитой законов и репрессивного аппарата государства. Сочинение законов в принципе не является делом человеческого ума, людям следует лишь подчиняться вечным законам, установленным Богом, но и к их выполнению никого не следует принуждать, ибо насилие в сфере религии и человеческих убеждений особенно отвратительно.
В русской культуре всегда жила мощная анархическая традиция, противостоящая неподотчетной централизованной власти и крепостническому государству. Толстой был современником таких классиков анархистской мысли, как Михаил Бакунин и Петр Кропоткин; дворян-интеллектуалов, вдохновлявшихся опытом русской крестьянской общины, упорным сопротивлением староверов диктату государственной церкви; казачеством, встававшим на защиту государства во время войны, но хранившим свои вольности в мирной жизни. Не менее важным для Толстого был опыт бесчисленных бродяг, паломников и нищих, оставлявших свои дома и деревни в поисках правильной веры.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу