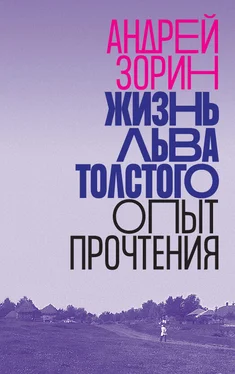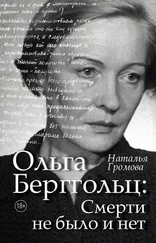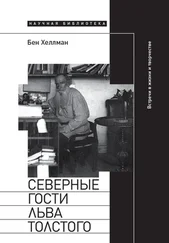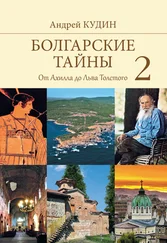25 января 1877 года, когда Толстой оканчивал «Анну Каренину», Софья Андреевна рассказывала Татьяне Андреевне о жизни их старшей сестры Елизаветы:
Лиза сестра нагла, решительна и противна до крайности. Начнет говорить о том, что мебель перебивает, и прибавит: «генерал в креслах червей завел». А между тем на деньги этого генерала ездит на чудесных лошадях, имеет бель-этаж в опере и носит на голове его фамильные бриллианты. Ужас и позор для всех нас. А этот кривой cousin с утра до ночи с ночи до утра у нее сидит, и она с ним всюду показывается [36].
Вероятно, окружающие не разделяли этого возмущения – в том же году Елизавета Андреевна развелась с мужем и вышла замуж за кузена. Ее общественный статус при этом особенно не пострадал.
В поворотном для отношений Анны и Вронского эпизоде, действие которого символическим образом разворачивается в театре, шепот сплетни разрастается до рева публичного осуждения – потому что он многократно усилен внутренним голосом самой Анны. Фурии, определяющие ее судьбу, доводящие ее до полубезумного состояния и в конце концов толкающие на рельсы, живут в ее собственной душе. В знаменитом эпиграфе «Мне отмщение, и Аз воздам» Толстой цитирует послание апостола Павла к Римлянам, и все же остается неясным, исходит ли воздаяние, постигшее Анну, от библейского Бога или от «страшного и цинического» божества плотской любви.
«Эмма Бовари – это я», – однажды сказал Флобер, отвечая на вопрос о прототипах своей героини. Едва ли Толстой так же отозвался бы об Анне, хотя он и наделил ее хорошо знакомым ему самому огнем неутоленных страстей. В то же время он, безусловно, мог бы сказать это о Константине Левине – даже фамилия героя произведена здесь от имени автора. Толстой отдал Левину многие обстоятельства собственной жизни, черты характера, бытовые вкусы и привычки, методы ведения хозяйства, политические и социальные взгляды, а также постоянное душевное и духовное беспокойство – едва ли не всё, кроме литературного дара. На долю Вронского, образца идеального мужчины comme il faut, уже, собственно, мало что осталось.
Ближе к концу романа Толстой специально обращает внимание читателя на то, что «несмотря на резкое различие, с точки зрения мужчин, между Вронским и Левиным», Анна, «как женщина, видела в них то самое общее, за что и Кити полюбила и Вронского, и Левина» (ПСС, XIX, 281). Общим в них было то, что оба служили проекциями разных сторон внутреннего мира автора, вновь, как и в «Войне и мире», разделившего себя между двумя персонажами. И Наташа, и Кити сначала отдают свое сердце безукоризненным офицерам, но потом понимают, каково их истинное чувство и предназначение. В «Анне Карениной» Толстой идет и дальше. В одном из центральных эпизодов романа Левин, как до него Вронский, подпадает под очарование Анны и, по существу, влюбляется в нее. Когда он возвращается домой, сцена ревности, которую устраивает ему Кити, может на первый взгляд показаться нелепой – не произошло решительно ничего, что хоть сколько-нибудь угрожало бы прочности ее семейного очага. И все же и Левин, и автор, и читатель понимают, что Кити права. « Прекрасно влюбился в Каренину и нехорошо , и жена резко ударяет на все это» [37], – отозвался на этот эпизод Фет.
Соотношение между семейными историями Левина и Анны часто рассматривают через призму открывающей книгу сакраментальной сентенции: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему» (ПСС, XVIII, 3). Однако смысл композиции романа, как и значение самой этой фразы, невозможно свести к прямолинейному противопоставлению. «Как известно, счастливые браки редки», – написал Шопенгауэр [38]. Толстой изобразил две счастливые семьи в эпилоге «Войны и мира» и навсегда потерял интерес к этой теме.
Русским школьникам уже успела набить оскомину фраза, сказанная Толстым жене в марте 1877 года: в «Анне Карениной» он любит «мысль семейную», а в «Войне и мире» любил «мысль народную, вследствие войны 1812 года» (СТ-Дн., II, 502). Высказывание это стоит, однако, поставить в контекст обстоятельств работы Толстого над обоими романами. В первом, написанном в эпоху резкого разрыва социальной ткани русского общества, он пытался создать картину былого народного единства. Во втором романе он думал о единстве семьи в ту пору, когда все явственнее обнаруживался непоправимый разрыв в его собственной семье. Это разочарование вполне отозвалось и на страницах «Анны Карениной». В одном из черновых набросков к роману Толстой написал:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу