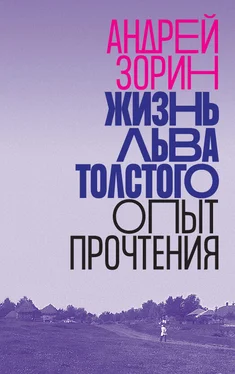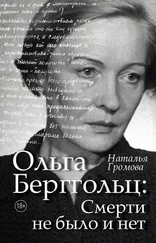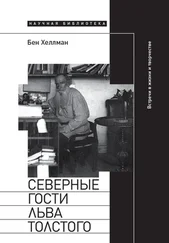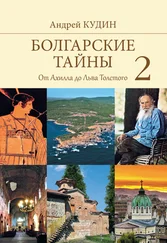Самой трудной задачей было найти естественный исход любви Оленина к Марьяне. После целой серии переработок Толстой отыскал концовку: раздраженная постоянным заигрыванием своего жениха Лукашки, самого храброго казака в станице, с другими девушками, Марьяна дает согласие Оленину. Поссорившись с невестой, Лукашка теряет свое звериное чутье и самоконтроль, и его смертельно ранят в перестрелке с чеченцами. Охваченная раскаянием и злобой по отношению к своему незваному поклоннику, Марьяна выгоняет его. У Оленина не остается другого выхода, кроме как вернуться в Петербург.
Катков немедленно опубликовал «Казаков». В следующем же номере «Русского вестника» появился написанный еще за границей рассказ «Поликушка». Публика была рада возвращению любимого автора. Критики расхваливали «Казаков» и восхищались этнографически точными описаниями жизни в станице и характерами Марьяны, Лукашки и особенно старика Ерошки, харизматического пьяницы и болтуна, выступающего хранителем казачьих обычаев и преданий. Фет отозвался о «Казаках» как о лучшем произведении, когда-либо написанном Толстым. Тургенев тоже был в восторге, хотя и скептически отнесся к изображению душевных метаний Оленина. Он без труда распознал в герое автобиографическую проекцию автора, к которому не испытывал симпатии. Все же и он был счастлив приветствовать возвращение блудного сына русской литературы и благодарил фортуну за проигрыш, вынудивший Толстого вновь взяться за перо.
Единственным недовольным был сам Толстой. В январе 1863 года он записал в дневнике: «Поправлял Казаков – страшно слабо. Верно, публика поэтому будет довольна» (ПСС, XLVIII, 50). Он собирался написать вторую часть повести, если начало будет хорошо принято, но, несмотря на всеобщий читательский энтузиазм, так и не исполнил этого намерения. Дав «Казакам» подзаголовок «Кавказская повесть 1852 года», он как бы отдалял себя от собственного произведения, относя его к периоду, предшествовавшему «Севастопольским рассказам», и вновь подчеркивая его документальную основу – именно в 1852 году Толстой жил в Старогладковской.
«Да кто же это такое написал Казаки и Поликушку? – писал он Фету в мае 1863 года. – Да и что рассуждать об них. Бумага все терпит, а редактор за все платит и печатает. ‹…› Полик[ушка] – болтовня на первую попавшуюся тему человека, который „и владеет пером„; а Казаки – с сукровицей , хотя и плохо» (ПСС, LXI, 16–17). «Сукровица» – это хотя и не кровь, которой, по Толстому, должна была писаться проза, но все же жидкость, вытекающая из человеческого тела. Частицей себя самого, которую Толстой отдал повести, была жажда без остатка раствориться в диком и естественном окружении. Оленин проводил все свои дни, бродя по горному лесу, и
возвращался усталым, голодным, с пятью-шестью фазанами за поясом, иногда с зверем, с нетронутым мешочком, в котором лежали закуска и папиросы. Ежели бы мысли в голове лежали так же, как папиросы в мешке, то можно было бы видеть, что за все эти четырнадцать часов ни одна мысль не пошевелилась в нем. Он приходил домой морально свежий, сильный и совершенно счастливый. (ПСС, VI, 88)
В том же письме Толстой сообщил Фету, что «пишет историю пегого мерина». Бóльшая ее часть написана от первого лица. Критика социальных условностей с «естественной» точки зрения была популярным литературным приемом еще с XVIII века, и лошадь, животное столь близкое человеку, могла выступать в качестве идеального наблюдателя. Тем не менее «Холстомер» менее всего был сатирической аллегорией – повесть исполнена понимания и сочувствия к тяжелой доле мерина и восхищения его умением принять неизбежный порядок жизни, старения и смерти. Толстой почти закончил «Холстомера», но не публиковал его больше двадцати лет, пока Софья Андреевна не отыскала рукопись в его бумагах. Он прервал работу над повестью, поскольку его полностью захватил его magnum opus.
Начало новой работы давалось Толстому тяжело. Он написал пятнадцать черновых вариантов первых страниц, прежде чем почувствовал, что готов продолжать. Он еще не вполне представлял себе сюжет, не был уверен ни в заглавии, ни в именах героев, но уже чувствовал, что наконец напал на золотую жилу. Никогда прежде и, вероятно, никогда позже Толстой не был так уверен в себе. В октябре 1863 года он писал Александре Толстой:
Я никогда не чувствовал свои умственные и даже все нравственные силы столько свободными и столько способными к работе. И работа эта есть у меня. Работа эта – роман из времени 1810 и 20-х годов, который занимает меня вполне с осени. ‹…› Я теперь писатель всеми силами своей души, и пишу и обдумываю, как я еще никогда не писал и [не] обдум[ывал]. (ПСС, LXI, 23–24)
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу