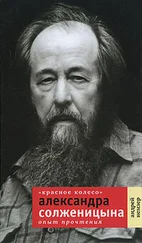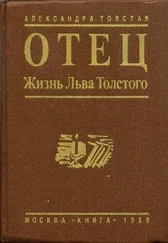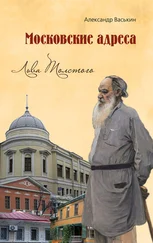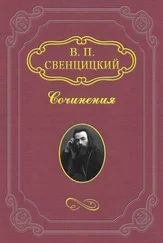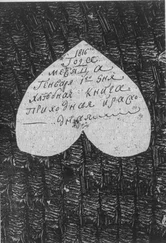Во время обыска Толстого не было дома. Потеряв двух умерших от чахотки братьев, он стал беспокоиться о собственном здоровье и отправился на Волгу пить кумыс, считавшийся целебным для легких. Новости застали его на обратном пути. Толстой чувствовал себя оскорбленным как аристократ, как анархист, как патриот, посвятивший жизнь примирению сословий, а не разжиганию вражды между ними, и более всего – как человек. «Я часто говорю себе, какое огромное счастье, что меня не было. Ежели бы я был, то верно бы уже судился, как убийца» (ПСС, LX, 438), – написал он Александре Толстой.
Занятия в школе не могли продолжаться. Некоторое время Толстой всерьез обдумывал идею «экспатриироваться». В том же письме он успокаивал тетушку и уверял ее, что не станет присоединяться к Герцену и заниматься противоправительственной деятельностью:
К Герцену я не поеду. Герцен сам по себе, я сам по себе. Я и прятаться не стану, я громко объявлю, что продаю именья, чтобы уехать из России, где нельзя знать минутой вперед, что меня, и сестру, и жену, и мать не скуют и не высекут, – я уеду. (ПСС, LX, 436)
Он не отправился в это добровольное изгнание и вообще никогда больше не выезжал из России даже на время. Катастрофа освободила его от обязательств по школе и позволила сосредоточиться на деле, которое он снова стал считать своим главным призванием. В то же время Толстой чувствовал: чтобы создать произведения, которые наконец удовлетворят его самого, ему надо полностью переменить образ жизни. Он также знал, что существует только один способ достигнуть этой благодетельной перемены: ему было необходимо жениться.
Глава вторая
Женатый гений
Мысль о женитьбе не была новой для Толстого. Строить планы семейной жизни он начал, едва перешагнув порог двадцатилетия. Еще в 1851 году он писал в «Дневнике», что приехал в Москву «с тремя целями. 1) Играть. 2) Жениться. 3) Получить место». Удалось ему только первое, хотя он и заключил потом, что это было «скверно и низко». Матримониальные планы он, «благодаря умным советам брата Ник[олиньки]», решил временно оставить, «до тех пор, пока принудит к тому или любовь, или рассудок, или даже судьба, которой нельзя во всем противудействовать» (ПСС, XLVI, 52–53).
Через восемь лет, 1 января 1859, года он пришел к выводу, что «надо жениться в нынешнем году – или никогда» (ПСС, XLVIII, 19). В его дневниках и письмах упоминается около десятка молодых женщин, к которым он присматривался как к потенциальным невестам, но практические шаги в этом направлении Толстой сделал только однажды. В 1856 году он собирался жениться на Валерии Арсеньевой, опекуном которой стал после смерти ее отца.
Разумеется, такое решение давалось ему тяжело. В дневнике Толстой постоянно задавался вопросом, любит ли он Валерию и способна ли она сама на настоящую любовь, находил ее то прелестной, то фальшивой и глупой. Он засыпал девушку назидательными письмами, в которых объяснял, как ей следует одеваться, чувствовать и вести себя, чтобы стать хорошей женой. Вне всякого сомнения, их частые беседы развивались по тому же сценарию. В конце концов эти своеобразные отношения утомили обоих. В начале следующего года Толстой внезапно отправился за границу, послав Валерии письмо с формальными извинениями. Двумя годами позже идеализированный образ Валерии – такой, как она представлялась ему в разгар этого навязанного им самому себе увлечения, – возник в его романе «Семейное счастье», где он воображал себе их несостоявшуюся совместную жизнь.
«Воспитание есть возведенное в принцип стремление к нравственному деспотизму, – писал Толстой в начале 1860-х годов в статье «Воспитание и образование», – ‹…› воспитание, как умышленное формирование людей по известным образцам, – не плодотворно, не законно и не возможно . ‹…› Права воспитания не существует. Я не признаю его, не признает, не признавало и не будет признавать его все воспитываемое молодое поколение, всегда и везде возмущающееся против насилия воспитания» (ПСС, VIII, 215–216). Между тем именно такой «нравственный деспотизм» Толстой практиковал в отношении бедной Валерии, которая не решалась протестовать из страха потерять столь завидного жениха.
Дело в том, что Толстой считал семью не столько союзом двух отдельных людей, сколько единой симбиотической личностью. В «Анне Карениной» Левин, самый автобиографический из персонажей прозы Толстого, с удивлением замечает после женитьбы, что его жена «не только близка ему, но что он теперь не знает, где кончается она и начинается он» (ПСС, XIX, 50). Представления Толстого о браке были такими же максималистскими и бескомпромиссными, как и требования к литературному тексту. Разница, однако, состояла в том, что он понимал: если он неправильно выберет себе спутницу жизни, следующей попытки у него уже не будет.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу