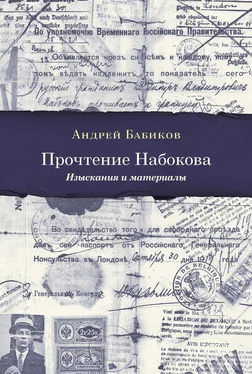Стихотворения, насколько нам известно, сопоставительному разбору не подвергались. Вот краткий отчет по этому предмету.
Помимо метрики, «Поэты» сближаются с «Балладой» и тематически. У Ходасевича описывается состояние поэта, когда в момент отчаяния его вдруг посещает вдохновение и «косная, нищая скудость» жизни отступает, сменяясь страстной речью и музыкой, предвещающей сочинение стихов: «Бессвязные, страстные речи! / Нельзя в них понять ничего, / Но звуки правдивее смысла / и слово сильнее всего». Медленно нарастающее напряжение и вальсовое качение этих стихов настолько поглощают внимание и «околдовывают слух», что не сразу замечаешь своеобразие их – например, холостые строки или то, как точно шестая переломная строфа делит стихотворение на две равные части, на два крыла, по пять строф в каждом. Образный переход в «Балладе» совершается от безмолвия, косности и неподвижности (дважды повторенный глагол первого лица «сижу») к движению, дважды повторенному «пению», к «вращательному танцу». Ключевая шестая строфа (после которой происходит смена ритмического рисунка) содержит и единственное утверждение стихотворения: «Но звуки правдивее смысла / И слово сильнее всего». Этому утверждению, с его библейским подтекстом, в «Поэтах» Набокова отвечают строки: «…пустыня ли, смерть, отрешенье от слова , – / а может быть проще: молчанье любви…» Набоков как будто соглашается с тем, что «слово сильнее всего», но переводит заемную максиму Ходасевича в личностный план: отрешенье от русского слова, родной речи (в начале 1939 года Набоков закончил свой первый английский роман), а также смерть поэта как молчание, замирание напева (позднее эта метафора будет развита Набоковым в английском стихотворении «The Room» («Комната», 1950), о поэте, умирающем в одиночестве в номере отеля). Как в «Балладе» повторяется тема пения, музыки, звуков, противостоящих косности, скудости жизни, так в «Поэтах» повторяется тема молчания, отрешенья от слова, невысказанности, этой скудостью обусловленной («но музы безродные нас доконали»). С другой стороны, в «Поэтах» переход «с порога мирского» (из эмпирических сеней, по созвучию соотнесенных с парижской Сеной, в потусторонность), как кажется, полемически обращен к « безвыходной жизни» лирического героя «Баллады». В то время как «Баллада» начинается с описания неподвижной фигуры в замкнутом круге условного интерьера («Сижу, освещаемый сверху, / Я в комнате круглой моей»), в зачине «Поэтов» говорится о движении и выходе «из комнаты », чему отвечает в предпоследней строфе метафорический переход «с порога мирского / в ту область», для которой Набоков подбирает слова: «пустыня», «смерть». У Ходасевича в первой строфе подчеркивается убожество и искусственность обстановки комнаты: «Смотрю в штукатурное небо / На солнце в шестнадцать свечей », у Набокова в первой строфе герой покидает комнату ( свеча гаснет) и оказывается в естественной среде, во мраке «беззвездной ночи», который идентичен, очевидно, той идеально черной вечности, о которой Набоков говорит в самом начале «Других берегов». (Попутно здесь следует отметить этот частый у Набокова многосоставный образ – жизни, времени, человеческого тела как дома, жилища, повторяемый им из стихотворения в стихотворение, из пьесы в пьесу, из романа в роман [110] Подробнее об этом см.: Бабиков А. Образ дома-времени в произведениях В. В. Набокова // Культура русской диаспоры: Владимир Набоков – 100 / Ред. И. Белобровцева, А. Данилевский. Таллинн, 2000. С. 91–99; Бабиков А. Примечания / Набоков В. Трагедия господина Морна. Пьесы. Лекции о драме. СПб.: Азбука, 2008. С. 552.
.) «Штукатурное небо» «Баллады» становится «высоким небом» в «Поэтах», электрическая свеча – настоящей колеблемой свечой. К этой же группе образов, связанных со светом и мраком, домом и «той областью» за порогом, относится и самая яркая аллитерация стихотворения – «на фосфорных рифмах», так запомнившаяся Адамовичу: слово «фосфор» происходит от греческого «светоносный», что возвращает нас и к гаснущей свече, и к самой русской поэзии, русскому слову («с последним, чуть зримым сияньем России»), сохраненному в русских сенях европейской эмиграции вопреки наступившей на родине тьме. Последние стихи, последняя попытка «донести тебя, чуть запотелое / и такое трепетное, в целости» («Вечер на пустыре», 1932) ввиду «молчания отчизны» и беззвездной европейской ночи. Неслучайным представляется в этой связи и повтор эпитета « текучие звезды» из «Баллады» в описании рекламных огней у Набокова: « текучих ее изумрудов» – образ, который подспудно, скорее на интуитивном уровне, выдает размышления самого автора о смерти («из умрудов»), как и «с умерки» в предыдущей строфе [111] В «Вечере на пустыре» Набоков рифмует «сумерки» и «умер». Ср. ложную этимологию имени «важной Тени» и «неожиданного гостя» Градуса в «Бледном огне» (1962): «Его фамилия Изумрудов звучала по-русски, но на самом деле значила „из умрудов“ (эскимосское племя) <���…>». Этот внезапно появляющийся персонаж, которого «никто не любил», но который «несомненно, обладал острым умом» – карнавальная персонификация смерти в романе. Направляя убийцу Градуса по адресу его «клиента», он «трясется от хохота (смерть – развеселое дело)» ( Набоков В. Бледный огонь / Пер. Веры Набоковой. СПб.: Азбука, 2010. С. 252–253). Питер Любин остроумно отметил, что этот Изумрудов является кинботовской проекцией Джеральда Эмеральда ( англ. emerald – изумруд) и обнаруживает стойкую связь русского и английского терминов с мотивом смерти у Набокова (к примеру, скамья подсудимых в «Приглашении на казнь» выкрашена в изумрудный цвет) ( Lubin P. Kickshaws and motley // Nabokov. Criticism, reminiscences, translations and tributes / Ed. by Alfred Appel, Jr. & Charles Newman. London: Weidenfeld and Nicolson, 1971. P. 207).
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу