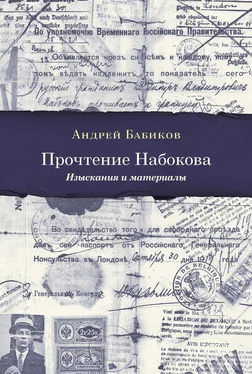Итак, своей вишневой косточкой Олеша убил двух зайцев. В рассказе на девяти страницах он, во-первых, изложил великолепно проиллюстрированную идею истинного писательского чувства, прекрасно выстроенную серию из нескольких литературных форм – драматичный диалог, эпистолу, монолог, описание, метаморфозы подсознания и т. д. А во-вторых, в остроумном финале, с его пародийным пафосом, обводит вокруг пальца критиков-коммунистов, внушив им, что замысел рассказа полностью соответствует официальной идеологии [384].
Манеру Олеши не следует смешивать с ординарным советском рассказом, в котором также может быть показана антикоммунистическая сторона той или иной проблемы, но в котором решение проблемы осуществляется в строгом соответствии с коммунистической доктриной. Дело в том, что антикоммунистический взгляд на вещи изображается всеми прочими писателями в Советской России в таких фальшивых, неуклюжих и избитых фразах, что правильный ответ, коммунистическое решение задачи, уже содержится в самом ее условии. Это конечное решение просвечивает с самого начала истории, что исключает возможность введения какого бы то ни было пародийного мотива. В этом отношении и все другие сочинения Олеши уникальны: он является также автором единственного в своем роде по-настоящему первоклассного романа «Зависть», изданного около пятнадцати лет тому назад [385]. С тех пор советские критики Олешу постепенно разоблачили, и его перестали печатать.
Теперь вернемся к нашему предмету и перейдем на пустырь остальной продукции в жанре короткого рассказа. Здесь царят серость и уныние, как вы, вероятно, уже успели предположить. Третий мир Олеши блистает своим отсутствием, как выражаются французы [386]. Но с точки зрения филологии советский рассказ, как и роман, дает нам немало полезного материала.
Большинство критиков рассматривает историю и периоды художественной прозы в Советской России, начиная, скажем, с 1920 года, в терминах романтизма, реализма и других «измов». В этом нет никакого смысла. В продолжение двадцати трех лет там не было никакой истории и периодов, а была лишь необъятная масса предписаний и норм, направляющих труд писателей. Темы все время новые, поскольку правительство предлагает авторам то одну, то другую проблему или сюжет, за которые им надлежит энергично браться и вводить в свои сочинения, которые превращаются, таким образом, в отчеты о проделанной работе. Однако, о чем бы ни шла речь, о фабрике, Красной армии или кролиководстве, главная тема любого советского рассказа остается неизменной, и, за исключением индивидуальных особенностей изложения и величины загубленного таланта, то несчетное множество рассказов, которое за двадцать лет было напечатано в советских журналах, практически невозможно рассматривать по отдельности. Прежде всего, они удивительно безлики, не говоря уже об отсутствии созидательного начала и собственного мира. Два мира даны писателям самой Партией – Старый и Новый, и оба должны изображаться в точном соответствии с коммунистической программой. Отменено исконное и главное право художника – право создавать собственный мир, и потому нисколько не удивительно, что рассказ в советской литературе представляет собой то, что представляет [387].
Есть рассказ о простом советском парне, который мечтает стать широко образованным человеком с помощью изучения одного тома из полного собрания сочинений Ленина – блестящая идея, которая приходит ему в голову и которую он воплощает на протяжении целого месяца. Когда же он поглощает двенадцать или четырнадцать книг, то становится чуть ли не мыслителем и к тому же счастливым супругом своей юной жены, продолжающим тайком изучать Маркса и Энгельса. Есть рассказ о молодом матросе, который автоматически становится хорошим большевиком после кругосветного плавания и знакомства с тем, как живут в других странах. «Роллс-ройс», везущий виноторговца по ярко освещенной парижской улице, врезается в толпу рабочих, пьяные женщины выходят, шатаясь, из пабов Пикадилли, банкиры в цилиндрах и белых шарфах прогуливаются по Уолл-стрит. Еще мне нравится рассказ о знаменитом – если верить автору – профессоре, уединенно работающем над решением одной сложной проблемы в области биологии. Студенты разъясняют ему, что уединение – это грех перед коллективом, после чего профессор поспешно делится с набившейся в комнату толпой любознательных молодых людей своей научной идеей, а они с советским энтузиазмом тут же берутся за нее и вскоре решают загадку, над которой старый чудак провозился бы еще много лет. Я с нежностью храню в памяти еще один рассказ – об американском инженере, который, в течение месяца пронаблюдав за работой советского завода, где сталь доводилась до совершенства в честь самого Сталина, а конвейеры, или как они там зовутся, стучали в ритме пролетарских сердец, вынул изо рта трубку и сказал на своем странном наречии (цитирую): «O. K., misters. Americans not so job» – автор, очевидно, полагает, кроме прочего, что слово «job» (работа) употребимо в качестве глагола. Все это, между прочим, показывает, как основательно Россия отделена от остального мира. Свыше двух с половиной веков тому назад [388]Петр Первый был горд тем, что прорубил окно в Европу – и Европа устремилась в него; теперь оно заколочено несколькими старыми досками.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу