Строятся большие планы на Коктебель. Как выражался Кирка, это место, куда каждый год семья не собирается ехать и всё равно едет. Через Бориса Михайловича передаются деньги на путёвки с припиской: «Ни Коктебель, ни Эйхи от нас не улизнули. Август – счастливый месяц!»
В Киеве спокойно и благостно. Мариенгоф действительно отдыхает. Погода только радует. В блаженном настроении посылается очередное письмо с признанием в вечной любви к украинской столице:
«Если бы женили на городах, я бы обязательно женился на Киеве, а изменял ему только с Ленинградом и ещё, может быть, с Парижем. Как видите, и тут бы сказалось моё постоянство.
При хорошем настроении в Киеве можно даже безумствовать, то есть пить коньяк, столь полезный диабетикам, и закусывать его крабами, а крабов здесь столько, словно Владимир Мономах крестил своих россиян не в Днепре, а в Тихом океане. А в Владивостоке, вероятно, закусывают коньяк галушками и украинским салом. Вы поймёте мой гнев на крабов, если я вам скажу, что киевские запасы мы ещё пополним 6 -ю коробками, которые я пёр на себе из Ленинграда».
Пока Эйхенбаумы раздумывают, ехать ли в Коктебель, Анатолий Борисович вовсю зазывает их составить компанию ему с Анной Борисовной:
«Мы что-то с Нюхой испугались деревенской тишины, испугались выскочить из этой толчеи, остаться в природе и с природой… с ней ведь не поговоришь на языке жизненного балагана, тут разговор серьёзный… А по паршивым ли он нашим силёнкам?..»
В Коктебеле, конечно, великие вдовы русской литературы, но одного этого общества Мариенгофу мало.
Пока строятся планы на Крым, Мариенгоф с Никритиной посещают Минск. Город показался им скучным – слишком тихим и слишком спокойным. Никритина так и пишет Эйхам:
«Единственно, чем нас порадовал Минск, это Бориным письмом – и этим всё сказано. Не дождёмся, когда кончатся гастроли. Но, увы, ещё длинных 20 дней. Теперь придумали развлечение – по утрам ездим за город, но для этого простаиваем часы у автобуса, и всё же легче прожить день».
Минск навевает скуку, но Мариенгоф с Никритиной, помимо прогулок за город, развлекаются футболом, джазом, и, пока БДТ репетирует спектакль без участия Никритиной, супруги даже умудряются полулегально выбраться в Западную Белоруссию, где надеются прикупить для себя и для ближайших друзей европейских вещиц. Селятся в пансионате «Августово» (под Гродно), где в их распоряжении яхт-клуб высшего командного состава армии. Мариенгоф тотчас же рапортует о новом развлечении Эйхенбауму:
«Наш яхт-клуб стоит в таком месте, какое тебе, “дружище” – старый пират из банды милого Пузака, – вероятно, по ночам снится: воды и сосны, сосны и воды, и могучий пиратский флот всех сортов. Мы обветрены, в мозолях, а на окнах сушатся белые грибы. Сам яхт-клуб – предел вкуса, комфорта, но с джазом!..»
(Джаз то служит писателю развлечением и отдушиной, то надоедает.)
В пансионате отдыхают артисты БДТ и какого-то белорусского театра. Случаются анекдотичные ситуации, о которых супруги немедленно отписывают в Ленинград:
«После завтрака мы сразу садимся в лодочку и переплываем озеро. А там: сосны, грибы и… пограничники. Кому-то из санаторцев они уже кричали “ложись!” – и женщины по привычке ложились на спину, а мужчины на живот. А одна актриса даже смущённо, говорят, залепетала: “Что вы, что вы, я с мужем”».
Из «Августово» делают набеги в Беловежскую пущу, замок Радзивилла и Белосток. Анатолий Борисович не теряет времени даром и много и упоённо читает. Среди прочего описывает Эйхенбауму «Гамлета» в переводе Пастернака:
«Боряша, у меня огорчение: прочёл “Гамлета” в переводе Пастернака. До чего же плохо! А я ждал, заранее смакуя. Мы ведь с Киркой гамлетианцы. Но Пастернак ничего не понял: ни шекспировского ума, ни конкретности его метафор, ни лёгкости юмора, ни разговорности стихотворной строки. Получилась какая-то литературно-повествовательная тягомотина, пересыпанная бытовыми словечками “а ла русс”.
Даже в финале Фортинбрас так разговаривает: “…Перенос творите с военной музыкой, по всем статьям церемоньяла…”»
Прошло почти полгода после смерти сына. Уезжая на гастроли вместе с женой, Мариенгоф пытается забыться. В квартире на Кирочной находиться невозможно. Особенно одному. 21 августа 1940-го он пишет Борису Михайловичу:
«Это уже последнее письмо к Вам, милые. Вероятно, первого будем в Ленинграде, не пишу “дома”, потому что дома у нас с Нюшей больше нет, есть квартира на Кирочной, ненавистная квартира, от которой, как приеду, начну избавляться».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

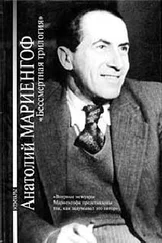


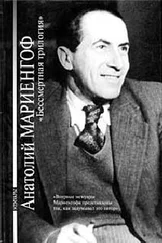






![Александра Демидов - Квартет Я. Как создавался самый смешной театр страны [litres]](/books/409199/aleksandra-demidov-kvartet-ya-kak-sozdavalsya-samyj-thumb.webp)
