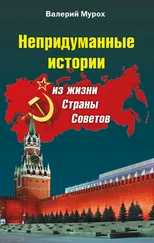Для 1928 года – очень сильный ход. Посыпались рецензии – в большинстве своём отрицательные, но встречались и положительные:
«Новый украинский фильм – “Проданный аппетит” – целится в старую мишень по-новому. Перед нами не очередная “сатира”, не “политграмота”, а крепкий социальный памфлет. <���…> Сочинение Лафарга экранизировано драматически искусно. <���…> Весь фильм полон динамики, весь искрится бурливой и горячей эксцентрикой, в некоторых местах прямо блестящей». 310
Со вторым сценарием всё намного интересней. Во-первых, у него было сразу несколько ходовых названий: помимо «Посторонней женщины» – «Сплетня», «Баба» и «Ревность». Последующая судьба этой задумки позволяет предположить, что идея принадлежит Мариенгофу: спустя пять лет появится его пьеса «Люди и свиньи», которая будет шуметь на театральных сценах. Сюжет её практически полностью совпадает с сюжетом фильма.
Мариенгоф и Эрдман направили сценарий в Совки-но. За работу над ним брались пять маститых режиссёров, в том числе А.Е.Разумный и А.М.Роом, но затем почему-то отказывались. В конце 1927 года «Посторонняя женщина» попала к молодому Ивану Пырьеву. До этого он ходил в учениках, а теперь ему представился шанс сыграть первую скрипку в оркестре.
В сюжет внесли несколько изменений: перенесли действие в зимний город и отказались от концовки Мариенгофа и Эрдмана. Пырьев сделал более мармеладный, как выражался Анатолий Борисович, конец: ревнивый муж так и остался ревнивым, своё всепожирающее чувство он пронёс через двадцать пять лет, и, когда у него уже был взрослый сын, так похожий на него самого, он допытывает жену: «Теперь это дело прошлое, но скажи мне, ты всё-таки жила с ним?» Героиня, не ответив, выходит из комнаты, оставляя мужа один на один с его переживаниями.
В оригинале у этой пары нет 25 лет. Ревность проявляется сразу.
О сюжете подробно писать не будем, так как он лёг в основу большой пьесы Мариенгофа; в нужной главе и поговорим. Но если спектакль по пьесе «Люди и свиньи» с огромнейшим успехом шёл на театральных сценах Москвы и Ленинграда, можно предположить, какой был успех у фильма.
«Посторонняя женщина» вышла на экраны в 1929 году. Рецензии на этот раз были более чем благосклонными:
«…Пырьевым удачно заострён эксцентрический показ мещанского уездного быта». 311
«Изображение мещанской стихии сделано очень сочно, с выдумкой и остроумием, в манере, переходящей иногда в яркий гротеск». 312
«Среди всех комедийных положений фильма сквозит авторская издёвка над тем, что должно быть бито и уничтожено в нашем быту». 313
«“Посторонняя женщина” резко и сатирически бичует старый быт». 314
И тем не менее, что же дало повод советской критике разгромить фильм и запретить его? Видимо, Мариенгоф и Эрдман слишком убедительно проработали нюансы, по которым мещане проявляют небывалую агрессию, а советские люди, люди светлого коммунистического будущего, ничего с ними не могут поделать.
Если про Николая Эрдмана многое известно: и бывший имажинист, и один из первых советских драматургов, автор запрещённых «Мандата» и «Самоубийцы», арестант и ссыльный, а после – лауреат Сталинской премии, – то про другого соавтора Мариенгофа по сценариям даже пытливый читатель знает мало. Но о нём есть одно упоминание у Анатолия Борисовича:
«– Я молю Бога, Боренька, чтобы у тебя всегда был один лишний рубль, – говорила мудрая еврейская мама своему сыну, у которого всегда не хватало по крайней мере одной тысячи.
Боренька – Борис Евсеевич Гусман. Лицом этакий курносый еврейский император Павел. Только добрый, симпатичный и совсем не сумасшедший.
Он написал интересные книги – “Сто поэтов”, “Чайковский” (монография; света не увидела). Он много лет подряд работал с Марьей Ильиничной Ульяновой в “Правде”. Сталин турнул его оттуда, но почему-то не посадил, а отправил в Большой театр.
Мой друг руководил им “со свежинкой”. Сталин и оттуда турнул его за эту самую “свежинку”. Но опять не посадил, а “кинул”, как тогда говорили, в Радиокомитет. После чего, не слишком канителясь, конечно, посадил за… “аристократизм в музыке”, то есть за передачу по радио симфоний Бетховена, Скрябина, Равеля, Дебюсси и Шостаковича. В обвинительном заключении было сказано: “Гусман завербован во «враги народа» Керженцевым”.
Керженцев, его патрон по Радиокомитету, умер, никем никогда не потревоженный, с пышным некрологом в “Правде”». 315
Если не вдаваться в скромные биографические подробности жизни Бориса Евсеевича, это всё, чем мы располагаем. Но до того, как он был репрессирован, вместе с Мариенгофом они написали три киносценария: «Весёлая канарейка» (1929); «Живой труп» (1929); «О странностях любви» (1936).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
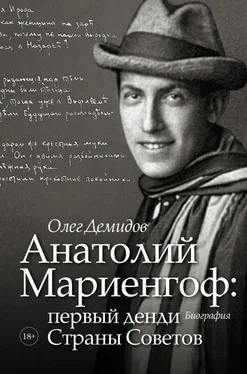
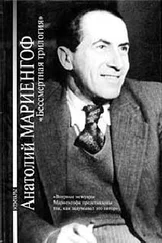
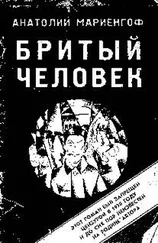


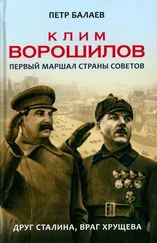

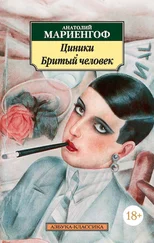

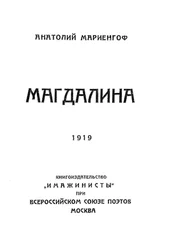
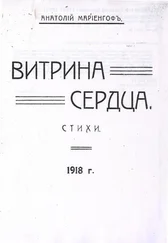
![Александра Демидов - Квартет Я. Как создавался самый смешной театр страны [litres]](/books/409199/aleksandra-demidov-kvartet-ya-kak-sozdavalsya-samyj-thumb.webp)