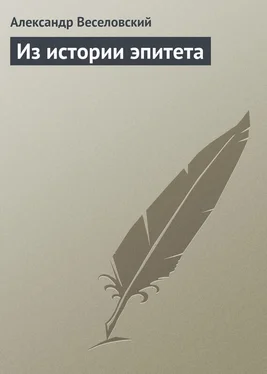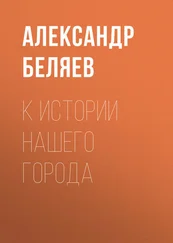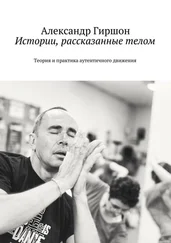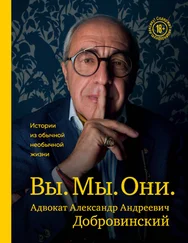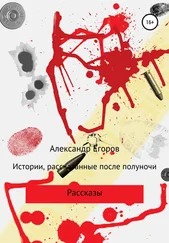Мерилом подобного рода определений служит нередко бытовое или этнографическое предание, сохранившееся в переживаниях. Лучшим материалом для копейных древ‹ков› считался ясень, оттуда ясеневое копье гомеровских и старофранцузских поэм: δόρυ, έγχος μειλινον, lance fraisnine, espiez fresnin; рядом с ними, хотя и в менее частом употреблении έγχεα οξνόεντα (буковые; или острые? редко у Гомера), baston pommerin [2] ст. – фр. – яблоневая палка
, espiel de cornier ‹роговое копье›, lance sapine ‹еловое копье›. В нашем эпосе копье мурзамецко (сл. седелышко черкасское) указывает на исторические отношения, как и старо французское arabi ‹арабский› при коне: то и другое было типом хорошего копья (серб. вито копjе), доброго коня (серб. добар кон›). Может быть, такими же отношениями объясняются «зеленые» щиты старофранцузского эпоса; наше зелено вино не идет в сравнение: вино и виноград смешивались, эпитет последнего перенесен был на первое тем легче, чем менее знакомы были с лозой; зелено вино вызвало далее образ «синего» кувшина. Иное дело зеленые пути (groenir brautir, grêne straeta) северной и англосаксонской поэзии: дорог нет, путь идет зеленым полем; в болгарской поэзии эти пути, друмы – белые; в старофранцузском эпосе их эпитет anti = antique: старые римские дороги. Эпитет бросает свет на три культурные перспективы.
Цвет волос – этнический признак; как греческие, так и средневековые витязи волосаты, в гомеровских поэмах ахеяне зовутся кудреглавыми (κάρηκομοωντες), женщины ήύκομοι и καλλιπλόκαμοι, прекраснокудрыми; волосы светлорусые: это любимый цвет у греков и римлян; все гомеровские герои белокуры, кроме Гектора. Реже черные волосы с синим отливом κυανεαι, у Гомера это цвет стали, шкуры дракона, кораблей, эпитет волос (Κυανοχαιης = Посейдон); грозовой тучи; у Платона κυανουν отвечает темно-синему, у Гезихия κυανόν – цвет неба. Это синкретическое представление черного, отливающего в синий цвет, лежит в эпитете киргизской эпики: черный стальной меч, ‹ст. – фр.› acier brun, и в основе северного blâr нем. blau: blâmadr = эфиоп; в древнерусских текстах бесы изображаются эфиопами – синьцами; синь, как эпитет камня в болгарских песнях и галицкой колядке, относится сюда же, как, может быть, и marbre bloi ‹ст. – фр. – голубой мрамор› в «Chanson de Roland».
И в сербском (руса глава), и в русском эпосе излюбленный цвет волос русый; в средневековой поэзии запада – золотистый ‹…›. Эта предилекция западных эстетиков настолько же этнического, насколько историко-культурного свойства, наследие, отчасти, римского вкуса; в других случаях предпочтение известных цветов, стало быть и эпитетов, может возбудить вопрос: имеем ли мы дело с безучастным переживанием древнейших физиологических впечатлений или с этническим признаком. Известно, что красный и желтый цвет раньше других распознаются ребенком, и физиологи указывают тому причину; красный, желтый, оранжевый цвета – излюбленные цвета диких, оставшихся на степени детски наивного миросозерцания; мы не удивимся после этого, если и гомеровские поэмы обнаруживают любовь к красному, но когда Грант Аллен говорит о таком же предрасположении у английских поэтов вообще, вопрос о народных особенностях эстетических впечатлений возникает сам собою. Наш «дородный добрый молодец» и «парень красавец» (fêtu framos = formosus) румынской народной поэзии принадлежат двум различным обобщениям.
Две группы пояснительных эпитетов заслуживают особого внимания: эпитет-метафора и синкретический, сливающиеся для нас в одно целое, тогда как между ними лежит полоса развития: от безразличия впечатлений к их сознательной раздельности.
Эпитет-метафора (в широком, аристотельском значении этого слова – троп) предполагает параллелизм впечатлений, их сравнение и логический вывод уравнения. Черная тоска, например, указывает на: а) противоположение тьмы и света (дня и ночи) – и веселого, и грустного настроения духа; b) на установление между ними параллели: света и веселья и т. д.; с) на обобщение эпитета световой категории в психологическое значение: черный как признак печали. Или – мертвая тишина, предполагающая ряд приравнений и обобщений: а) мертвец молчит; b) молчание – признак смерти; с) перенесение реального признака (молчание) на отвлечение: тишина.
Развитием эпитета-метафоры объясняются те случаи, когда, например: а) действие, совершающееся при известном объекте, в пределах одного представления, либо его сопровождающее, переносится на него как действие, ему свойственное, при большем или меньшем развитии олицетворения. Глухое окно, blindes Fenster – это окно, в которое не видят, из которого не слышно; cл. фр. lanterne sourde ‹глухая башня›; лес глухой (Пушкин); vada caeca ‹лат. – слепые отмели; «Энеида», I, 536. Ленау говорит о звучащем, звучном утре (der klingende Morgen), y Пушкина встречаем и «голодную волну», и «зиму седую», и «грех алчный». Сюда относится и «золотая Церера» и «бледный страх» («Илиада», VII, 479, VIII, 159…›) у Гомера и Эсхила, и «бледная зависть», фр. colère bleue ‹синий гнев›, и caecus Amor ‹лат. – голубой Амур›, и «розовый стыд» Шекспира; сл. сербские: nujана механа = корчма; оружье плашиво – страшное; лит. «молодые дни»; «мертвые болезни», «царство белой смерти» ‹у Бальмонта›. Либо b) эпитет, характеризующий предмет, прилагается и к его частям: так синий, caeruleus, переносится от моря к каплям пота Аретузы ‹Овидий. «Метаморфозы», V, 633›; у нереид, обитательниц моря, волосы зеленые (цвет моря или морской травы?), а у Ленау (зеленая) тропа олицетворена: ей нечего поведать о былой любви, и она печально замкнула свои зеленые уста ‹…›. См. у Некрасова: зеленый шум, silenzio verde ‹ит. – зеленая тишина› ‹Кардуччи› ‹…›.
Читать дальше