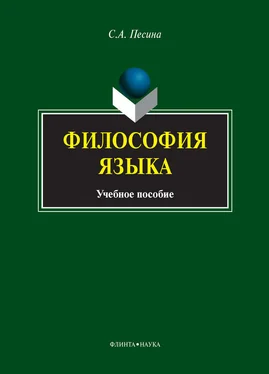Исторически изучение языка и речи шло неравномерно: в первую очередь, естественно, изучалась и изучается речь, т. е. то, что находится в сфере непосредственного опыта исследователей. При этом подразумевается, что одновременно идет исследование «языка, засвидетельствованного в речи» [Косериу 1963: 176].
У основоположника понимания языка как деятельности духа В. Гумбольдта язык рассматривается в качестве самодостаточной сущности, «порождающего себя механизма»: «В языке следует видеть не какой-то материал, который можно обозревать в его совокупности или передать часть за частью, а вечно порождающий себя механизм, в котором законы порождения определены, но объем и в известной мере также способ порождения остаются совершенно произвольными» [Гумбольдт 1984: 360]. Вместе с тем ученый четко разграничивал речевую и языковую деятельность, понимая последнюю как «соединение индивидуальных восприятий с общей природой человека» и указывая на то, что только в речи индивида язык достигает своей окончательной определенности [Там же: 78].
В. фон Гумбольдт, подвергнув критике трансцендентальную философию, осознал язык как органон рассудка, как способ существования и функционирования ума, задавая иную перспективу исследования языка, при которой язык понимался не как мертвый продукт, а как созидающий процесс, не как продукт деятельности (Ergon), а как деятельность (Energeia). Из материала для выражения духа язык стал преобразователем мира, который лежит между миром внешних явлений и внутренним миром человека. Данный языковый мир является не податливым материалом для выражения мысли, а энергетической активностью, задающей определенные рамки восприятию и мышлению, формируя установки и перспективы для усилий мысли.
Особый интерес представляют мысли В. Гумбольдта по поводу процесса восприятия речи: слушающий, так же, как и говорящий, «должен воссоздать его посредством своей внутренней силы, и все, что он воспринимает, сводится лишь к стимулу, вызывающему тождественные явления. Поэтому, всякое понимание всегда есть вместе с тем и непонимание, всякое согласие в мыслях и чувствах – вместе и расхождение» [Там же: 77–78]. Тезис о том, что речевое общение является только «ответным побуждением языковой способности», т. е. что в процессе коммуникации не происходит передачи содержания высказывания как такового, к сожалению, не получил у В. Гумбольдта дальнейшего развития.
Понимание языка как объективного духа вызвало возражения. Так, Ф. Маутнер, в частности, считает, что «язык не является созданием объективного духа. Собственно дух есть субъективное в человеке. В действительности факт, который грандиозно выступает как объективный дух, есть не что иное, как зависимость отдельного человека от языка, унаследованного им от сменяющей друг друга массы предков и имеющего для него потребительскую ценность только потому, что он находится в совместной собственности всех соплеменников». В качестве объективного духа, имеющего субъективную природу, язык приобретает статус властной инстанции по отношению к индивиду: поскольку он есть «социальная сила, то он властвует над мыслями отдельных людей». По мнению Ф. Маутнера, бытие языка состоит единственно в его использовании – не находя употребления, он умирает. Основной постулат его концепции гласит: «речь или мышление есть деятельность…» [Mauthner 1982: 24, 42]. Автор понимает язык как индивидуальную деятельность по производству речевых актов на основании памяти. Язык есть совокупность отдельных речевых актов, он существует только на протяжении речи, разговора, т. е. только в настоящем, которое приобретает в маутнеровской концепции характер длительности.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.