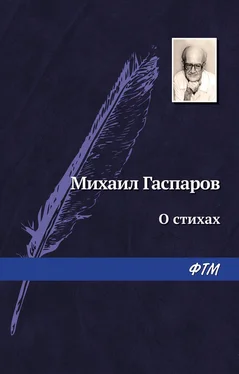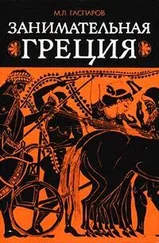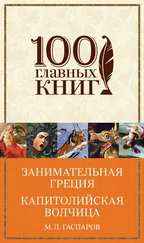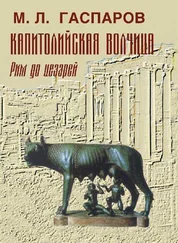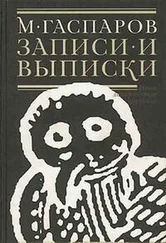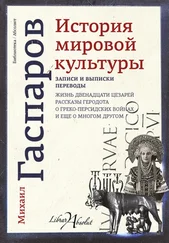В таком подходе к переводу Брюсов был не одинок среди современников, так же, как он, искавших путей к новой поэтике. Подобным же образом украшал Иннокентий Анненский если не все, то многие из своих фантазий на темы «парнасцев и проклятых»; подобным же образом Бальмонт переводил сплеча тома Эдгара По, Шелли и Уитмена, безукоризненно воспроизводя то, что ему нравилось в этих поэтах, и заменяя собственными вариациями то, что казалось ему в них недостаточно удачным; а Максимилиан Волошин даже в 1919 г., собрав в книгу свои переводы из Верхарна, считал необходимым в предисловии предупредить читателя, что в тех переводах, которые он делал по доброй воле, он считал возможным опускать верхарновские строки и добавлять свои, и только в нескольких переводах на заказ, к которым он был равнодушен, он старался быть точен.
Но Брюсов не был бы Брюсовым, если бы он остановился на таком интуитивном различении добра и зла в вопросах перевода. Его аналитический ум требовал осмысления стихийного опыта. Это осмысление касалось и материала, и метода его переводов.
Как только Брюсов к 1900-м годам вырабатывает собственный художественный стиль – стиль «Tertia vigil іа», «Urbi et orbi», «Stephanos», «Всех напевов», – прежняя потребность в переводческой лаборатории для него отпадает. Экспериментаторский интерес сменяется коллекционерским и просветительским: свой запас переводов он рассматривает уже не как сырье для собственного художественного производства, а как готовое изделие для читательского художественного потребления. Он пересматривает свои переводы, заменяет неудачные, восполняет пробелы, отделяет главное от второстепенного. Так составляется сборник «Французские лирики XIX века» (1909 и 1913), в котором пестрая россыпь имен больших и малых французских символистов упорядочивается по поколениям, снабжается биографическими и библиографическими заметками, превращается почти в историко-литературную хрестоматию. Из этой массы выделяются два имени, они теперь в центре брюсовского пантеона: это Верлен и Верхарн. Верлен был первой любовью Брюсова среди символистов, верность ему он сохранил до конца, и большой том брюсовских переводов из Верлена со статьями и примечаниями до сих пор остается одним из лучших изданий русского Верлена. (Только «одним из лучших», потому что вслед за Брюсовым с переводами Верлена выступил Ф. Сологуб, и книжечка его переводов была такова, что сам Брюсов, не любивший признавать поражений, заявил о его превосходстве; но славы первооткрывателя русского Верлена Брюсов не уступал никому.) Верхарн открылся Брюсову позже, к концу 1890-х годов, а по-настоящему зазвучал в его стихах в революционном 1905 году: и мятежность, и пафос, и трагизм великого бельгийского ритора обрели в русской поэзии такую революционную силу, какой они никогда не имели в контексте французской словесности. Брюсовский Верхарн остался образцовым: его переводили многие талантливые мастера и при жизни Брюсова, и после его смерти, здесь было много и удач и неудач, но интонация, стиль, строй всюду, даже при попытках отталкивания, оставались те, которые были заданы Брюсовым.
Как в выборе поэтов, так и в выборе приемов произвол уступает место обдуманности. Брюсов не собирается отказываться от своего способа перевода – от обычая переводить точно самые яркие художественные эффекты подлинника и приблизительно, по мере сил, – все остальное. Но он хочет дать себе отчет, почему ему кажутся самыми яркими в таком-то стихотворении такие-то черты, а в таком-то – совсем иные. И он отвечает: «Внешность лирического стихотворения, его форма, образуется из целого ряда составных элементов, сочетание которых и воплощает более или менее полно чувство и поэтическую идею художника, – таковы: стиль языка, образы, размер и рифма, движение стиха, игра слогов и звуков… Воспроизвести при переводе стихотворения все эти элементы полно и точно – немыслимо. Переводчик обычно стремится передать лишь один или в лучшем случае два (большею частью образы и размер), изменив другие (стиль, движение стиха, рифмы, звуки слов). Но есть стихи, в которых первенствующую роль играют не образы, а, например, звуки слов («The Bells» Эдгара По) или даже рифмы (многие из шуточных стихотворений). Выбор такого элемента, который считаешь наиболее важным в переводимом произведении, составляет метод перевода». Это написано в 1905 г. в статье под броским заглавием «Фиалки в тигеле» (статья начинается фразой Шелли: «Стремиться передать создания поэта с одного языка на другой – это то же самое, как если бы мы бросили в тигель фиалку с целью открыть основной принцип ее красок и запаха»). Поводом для статьи был сделанный Г. Чулковым перевод «Песен» Метерлинка, где Чулков переводил преимущественно образы, а не «склад стиха и его движение». И Брюсов продолжает: «В «Песнях» Метерлинка важнее их склад, чем их образы. Переводчик «Песен» вправе и обязан ради сохранения их склада жертвовать точной передачей их образов. Вольным переводом этих «Песен» надо признать не тот, который удаляется от точного воспроизведения картин подлинника (если, конечно, замысел автора, «идея» песни и проникающее ее настроение сохранены), но тот, который разрушает особенности ее склада. Часто необдуманная верность оказывается предательством».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу